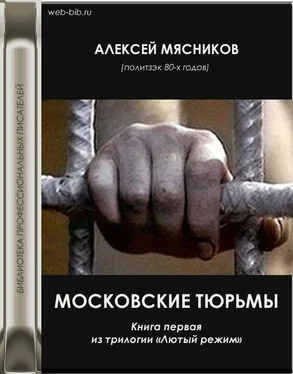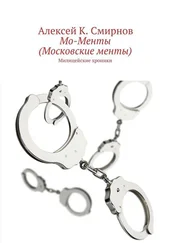Инженер из подмосковного Зеленограда. Попался, говорит, на обмене мелкой валюты. Дали три года усиленного режима. Полгода отсидел в зоне в Калининской области. Пристроился чем-то вроде художника или письмоводителя, был допущен к зэковской картотеке, по которой проводят проверку. Там фотография, статья, срок. Статью 190 не помнит, видно на их зоне таких нет. Он, по его словам, равнодушен к политике. Но при мне то и дело ругает Брежнева, власть. Ругается грубо, невпопад, примитивно — совершенно неясно было, зачем он так нервничает? Эти неожиданные взрывы меня несколько настораживали. Стрелять их, такую-то мать, вешать! Войной на них, пожечь до тла! Зачем так шумишь, Володя, что не нравится? Как надо, как должно быть? Он замолчал, дальше бутафорской ругани его социальная активность не простиралась. О зэках на зоне резко отрицательно: «Это не люди, 90 % я бы бульдозерами подавил».
В первые же дни на зоне поставили его дежурить старшим по столовой. Сразу навел порядок: проследил заправку котлов по нормам, отвадил блоть — целая революция. В такое бахвальство и не знающему человеку трудно поверить. Некому больше, будто только его и ждали: вот поселят Ивонина и наведет он порядок на зоне. Одно ясно — он полгода просидел в кабинете отрядника, под крылом администрации. С людьми не сжился. Сейчас я знаю: зэки таких не любят. Администрация берет под опеку только «своих» людей, и делается это не за красивые глазки. Непутевый Ивонин зэк. Видно было, что Ивонин в отчаянии не остановится ни перед чем, напуган и обозлен на людей. Костит всех — один он хороший. Особенно доставалось жене, она-то и была причиной мирового зла. По при бытии на зону полагается свидание. Жена телеграфирует, что пока не может: через неделю едет в санаторий, а из Зеленограда до зоны всего часа три. Скрипит зубами. Никаких вестей. Ему еще раз переносят свидание, он шлет письма, телеграммы. Приходит сухая записка, чтоб не ждал. Ни ее, ни денег, ни посылки, ни передачи. Бандероли табаку не прислала. Она — член партии, депутат, работает в горисполкоме — не может с ним оставаться по принципиальным соображениям. «Я знаю, на чьих она машинах катается, — рычал Ивонин. — Я ей устрою: на десять лет сядет». Он был уверен, что новое дело, по которому его выдернули с зоны и привезли в Лефортово, — ее рук дело. Нашла в квартире спрятанные им ценности и заявила. Назвала его знакомых из секретного института, с которыми он был связан по сбыту ворованной продукции. Но и они хороши.
— Когда меня арестовали, я им передал, чтоб все прекратили. На год, по крайней мере, надо было уйти на дно. Месяц продержались, а потом опять — кабаки, загуляли. А на какие деньги? Менты их выследили.
Ивонин сокрушался, что теперь лет десять схлопочет, не меньше. Но что-то он знал и про жену, которая за его счет шкуру спасает. Если он не выкарабкается, то ее тоже посадит. А нет, так убьет. Сколько бы ни сидел, как вернется — убьет. Она знает его характер, и потому сейчас будет делать все, чтобы упрятать его подальше. Как не беситься! Тошно слушать Ивонина, но как всякого, кому грозит большой срок, жаль его.
А случай с платиной заставляет задуматься. Примечательно то, что друзья Ивонина, арестованные инженеры, по делу которых он вызван из зоны, очевидно талантливые люди. Платина им выдавалась на технические цели. Они разработали новую технологию, позволяющую обходиться без дорогостоящей платины, которую утаивали несколько лет. Это было совершенно незаметно по техническому процессу — ценнейшее изобретение! Но, видимо, награда за него настолько несоизмерима с реальной выгодой, что инженеры решили вознаградить себя сами. Если не мириться с уравниловкой, со скудностью оплаты, то талант — преступление. Даже в технической области, даже в хозяйственной. Сколько таких примеров!
Вспоминаю Худенко. В конце 60-х это имя гремело. Радетели хозрасчета изучали и пропагандировали его опыт. Созывались представительные совещания. Был он и у нас, в институте социологии. В Казахстане Худенко взял плохонький то ли колхоз, то ли совхоз и сделал из него образцовое хозяйство. В конторе оставил лишь троих; он — директор, агроном и бухгалтер. Сократил все рабочие вакансии, фонд зарплаты распределил оставшимся, люди зарабатывали у него по 400–500 рублей. Сразу исчез недостаток рабочей силы. Наоборот, к нему рвались, а он не каждого брал — по выбору. Людей меньше — зарплаты больше — выработка больше и лучше, чем в остальных хозяйствах. Похоже на щекинский метод в промышленности. А кончили трагичнее щекинцев. Если обманутого директора Щекинского комбината выпроводили на пенсию, то Худенко посадили. Сначала опечатали кассу, но надо платить зарплату — вместе с месткомом он срывает печать. Его арестовывают, и в следственной тюрьме он умирает. Мой адвокат Швейский ездил туда от «Литературной газеты». Никакого нарушения законности не было — была лишь нормальная работа и оплата по труду. И это, оказывается, преступление. В социалистическом государстве убивают человека за практическое воплощение основного принципа социализма, утвержденного Конституцией. Не парадокс ли? И вся наша жизнь так. Выгода хозяйственного расчета абсолютно бесспорна. Люди в два раза получают больше, чем раньше, зато в пять раз больше производительность. Все бы хозяйствовали так — было бы у нас больше и хлеба, и молока, и мяса, и никакого дефицита товаров или рабочей силы. Кому от этого плохо? Наверное тому, кто хочет, чтобы люди работали бесплатно. Тому, чей лозунг «пятилетку — в три года», а об оплате умалчивается. Тому, кто трубит о моральных стимулах, о сознании, загребая результаты бесплатного труда. Кто не хочет платить и не терпит самостоятельности производителя, усматривая в малейшем движении к хозяйственной независимости и благосостоянию покушение на власть. Такой работодатель — рабовладелец. Они и съели Худенко.
Читать дальше