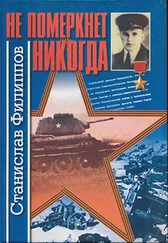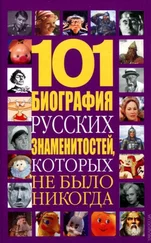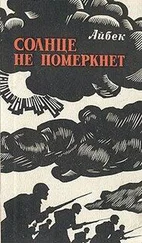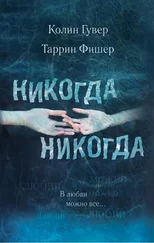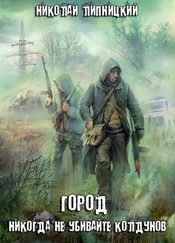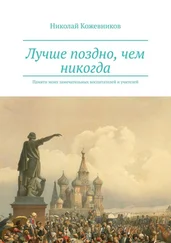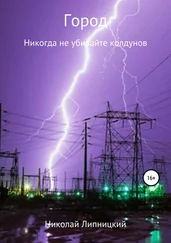* * *
До весны 1941 года я никогда в Одессе не бывал. Да и тогда, приезжая три-четыре раза из Белграда по служебным делам, имел очень мало времени на знакомство с городом.
Но у Одессы есть удивительное свойство: после нескольких коротких встреч с нею кажется, что знаешь ее давно.
Впрочем, так ли уж это удивительно? Ведь она принадлежит к городам, с которыми незаметно для себя успеваешь познакомиться заочно. В скольких книгах, прочитанных еще в юности, описывались облик Одессы, ее нравы и быт, сколько связалось в памяти с этим городом исторических имен, знаменательных событий!
Я сразу узнал Потемкинскую лестницу -разве забудешь ее, если даже много лет назад видел фильм о легендарном революционном броненосце. Названия улиц и площадей на* поминали то о бродившем здесь молодом Пушкине, то о неуловимом Котовском, то о восставших матросах с французской эскадры.
Множество красивых зданий, обилие зелени и солнца придавали центральным одесским улицам нарядный, праздничный вид. Как-то празднично выглядели и заполнявшие их люди, по-южному темпераментные, оживленные. Город имел свой колорит, свой характер - веселый, немного беззаботный и в то же время доброжелательный.
Май, дождливый и туманный на Дальнем Востоке, здесь был сухим, жарким. Людской поток уже устремлялся на золотистые пляжи Аркадии, в живописную Лузановку.
А торговый порт, открывавшийся взгляду с высоты Приморского бульвара, казался притихшим, пустынным. В разных концах просторных гаваней стояло несколько транспортов, около них шевелили длинными хоботами погрузочные краны. Однако сразу чувствовалось, что этот порт-великан, один из крупнейших в стране, работает далеко не в полную силу. Сказывалась война в Европе, парализовавшая судоходство за проливами, в Средиземном море. Но тогда она, хоть и шла не так далеко, еще была чужой войной.
Когда я вернулся в Одессу, истекал уже месяц, как война бушевала на нашей земле. На юге фронт подошел к Днестру, значительно приблизившись к Одессе.
По пути от вокзала внимательно присматриваюсь ко всему, что можно увидеть из окна трамвайного вагона. Сперва кажется, будто все почти как прежде. Разрушений от бомбежек не заметно. На клумбах бульваров пестреют высаженные, должно быть, еще до войны цветы. Как обычно в жаркий день, распахнуты двери магазинов, кафе. На афишах кинотеатров- "Мы из Кронштадта", "Трактористы".
Но нет запомнившихся в первые приезды оживленных и веселых людских потоков на тротуарах. Пешеходы шагают торопливо, озабоченно. И вообще людей на улицах гораздо меньше. Многие, конечно, давно в армии, на фронте. Другие уехали со своими заводами и институтами в глубь страны (о том, что началась эвакуация основных одесских предприятий, я слышал, еще когда был здесь в прошлый раз). Наверное, немало горожан занято на строительстве оборонительных рубежей в приднестровской степи.
Но, оказывается, уже не только в степи. У одного перекрестка бросилась в глаза перегородившая улицу стена из мешков, набитых песком или землей. Трамвай, замедлив ход, проехал через оставленные посередине "ворота". Баррикада для уличных боев? Значит, в Одессе учитывают, и такую возможность...
В штабе узнал, что это уже не штаб Приморской группы войск: 19 июля Южный фронт преобразовал группу в Приморскую армию, а я уже числился заместителем начальника оперативного отдела штарма.
- Начальником оперативного отдела является генерал-майор Воробьев, сообщил дежурный и объяснил, как к нему пройти.
Миновав коридор, где стояли выдвинутые из комнат сейфы и заколоченные ящики (управления Одесского военного округа готовились к переезду в Днепропетровск), нашел нужный кабинет. Постучался, открыл дверь и увидел за большим письменным столом Василия Фроловича Воробьева, под началом которого служил в штабе 1-й Тихоокеанской дивизии... Стало ясно, что это он позаботился о моем возвращении в Одессу.
Мы не виделись около двенадцати лет. До меня доходило, что после Дальнего Востока В. Ф. Воробьев служил в Москве, окончил две военные академии - имени М. В. Фрунзе и Генерального штаба, а затем преподавал в последней. Когда присваивали введенные у нас генеральские звания, я видел его портрет в "Правде".
Как и на том портрете, Василий Фролович выглядел очень внушительно, старше своих сорока с небольшим. Он был еще в полной генеральской форме мирного времени - с лампасами и нарукавными шевронами (все, с кем я встречался, перешли на полевую). Чем-то довоенным веяло и от убранства его кабинета: портьеры, уютные кресла, столик с прохладительными напитками...
Читать дальше