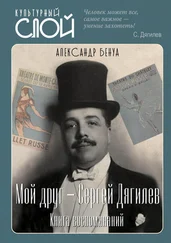Жизнь наша здесь в Париже — непрестанные томления и тревога (безденежного труда), работа с Идой Рубинштейн в 1934 году завершилась давно предвиденным разрывом с этой бездарной любительницей.
Мы по-прежнему живем на веточке, и если сейчас нас не согнали, не выбросили на улицу, то это потому, что мне «удалось» (увы, случайно!) продать своих фамильных Гварди за 120 000 фр. На них и живем. Европа же пуще прежнего хворает (сейчас идет дипломатическая потасовка из-за «одностороннего» нарушения Гитлером Версальского договора). Единственно, с чем я могу себя лишь поздравить, так это с тем, что Бог меня миловал не присутствовать (и не быть притянутым к участию в этом деле) при разорении на родине всего того, из-за чего, казалось, и стоило жить, главным образом при разбазаривании Эрмитажа…
И кроме того, Эрнст в хлопотах о предоставлении «гражданке», известной художнице Остроумовой-Лебедевой, кроме помещения в 6 кв. сажен, еще комнаты для ее художественно-культурной деятельности.
Тата тоже смущена «приключением мира» — как кричали газетные мальчишки. После чая Сара Семеновна мне играла Куперена. Раздражают акварели (гризетки). Уже были они другие и, на наш взгляд, пустые. Кому понадобится такое искусство? До них был у В.П.Лебедева. Он тоже очень недоволен и Шухаевым, и Григорьевым, но совершенно в иных выражениях. Про наше отсутствие на выставке с забавной наивностью «соглашается», так и говорит: «Вы свое дело сделали, а следовательно, можете отправляться на покой». Пишет он сейчас натюрморт из всяких жестяных предметов, вид крыш и стен из окна (без всякой сентиментальности а-ля Добужинский и всякой колористической задачи) и каких-то размалеванных девок.
За чаем Замирайло, доедая свою последнюю картошку, предложил свои услуги. Едва ли это и его дело. Некрасов выйдет каким-то вымученным, выразительным и холодным. Но все же надо будет выставить и его кандидатуру. Он все же сделает «культурно».
Я чуть было не раскричался на этого хама за один тон, которым говорит, с хохотом и иронией. Сама же его докладная записка — после вычеркивания годного для декрета об объявлении России республикой вступления с гнуснейшим цинизмом о том, что царь держал под спудом искусство и в намеренном невежестве народ, — неожиданно переходит к самому изложению проекта о том, что нужно как можно шире поставить фотографическое дело и, в первую голову, репродуцирование музейных и дворцовых вещей. И вот в качестве первой конкретной меры предлагается: «Изъять из ведения отдела дворцовых комиссий фотографирование и сосредоточить все это дело в одной лаборатории». Вообще у этих архистратигов свободная трата слов: изъять и запретить, а для того, чтобы что-нибудь распространить, они первым долгом губят источник распространения. А нам как под этими аферами? Ну, скажем, получить музейные фотографии? И я имею еще благодушие излить такой сволочи свою точку зрения даже общеполитического характера. Снова я сижу с Ятмановым. Я счел нужным предпослать в двух словах свой отрицательный взгляд на социализм вообще, и вот тут нахал (интуитивно он, может быть, чувствует сиюминутную наивную сторону того, что я ему это тщусь разъяснить) стал особенно язвительно улыбаться и болтать какую-то чепуху, что-де все это фразы и я с народным делом более становлюсь социалистом. Что именно под этим он — и вообще они — понимают, сказать трудно. Но я думаю: не больше, как утверждение своей физической победы, прочности своей опоры на штыках.
Вклеена записочка Штеренберга, написанная карандашом:
«Ко мне переходит чиновник со всеми бумагами всех Академий. Мне необходимо поговорить с теми людьми, о которых вы говорили, что они академики, но желающие внести другие формы в эти школы.
Пригласить запросить или это делается иначе, здесь у вас».
Длинный, элегантный и уродливый молодой человек, приходивший просить меня произвести экспертизу тех художественных вещей, которые у них в царскосельском доме и которые он хотел продать. Я обещал назавтра даже поехать с Аргутоном.
Кстати, я с Ятмановым снова затронул и тему об антикварах, торговле художественными произведениями вообще и вывозе их за границу. Разумеется, этот палач и здесь стоит на всех своих запретительных и реквизиционных точках зрения. Лукомский считает, что этот еще хуже Макарова. Что хуже всего — полная при этом бездарность и невежество! Ему на самом деле до всех этих вещей дела нет!
Читать дальше
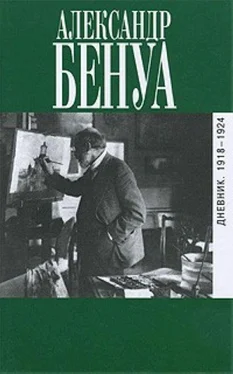




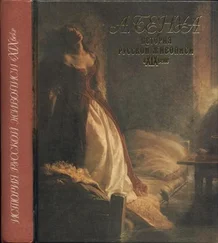

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/425308/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr-thumb.webp)