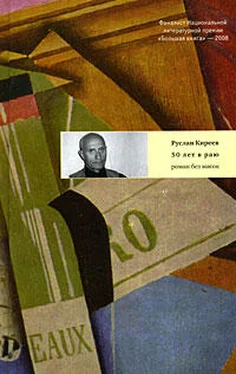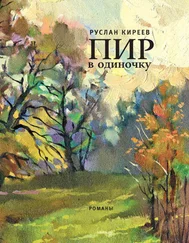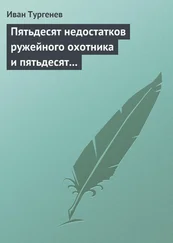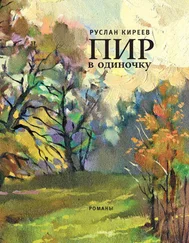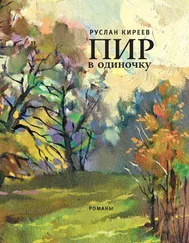Одна из самых пронзительных сцен мопассановского «Милого друга» – беседа Дюруа и престарелого поэта Норбера де Варена, когда они возвращаются по ночным парижским улицам со званного ужина у Вальтеров. Поэт говорит о смерти. Но как, как говорит! Ужас подкрадывающегося небытия передан так, что тебя аж холодок прошибает. Вот только не сейчас прошибает (это я о себе), а лет сорок назад – с тех пор «Милого друга» не перечитывал вплоть до нынешнего времени. Но тогда, насколько помню, мне и в голову не приходило, что есть в этой сцене некая психологическая натяжка. Страх перед неизбежностью конца терзает, как правило, вовсе не стариков, а людей молодых, которым еще жить и жить (Мопассану, когда писал эти страницы, было тридцать четыре) и которые, главное, не устали от жизни. А де Варен устал. И такого острого, такого животного страха перед неизбежностью конца он уже испытывать не мог – по себе знаю.
Но усталость не обязательно связана с возрастом. Я быстро утомлялся даже в молодые годы: не мог высидеть за письменным столом более двух часов кряду, а иных она, усталость, не берет даже на седьмом десятке. Я пишу это весной 2007-го, и, может быть, поэтому самый яркий, самый наглядный пример для меня – Эдуард Лимонов, о котором что ни день напоминают радио и газеты.
Весной 2003-го, на сорок шестом году моего пребывания в раю, он был осужден на четыре года (обвинение четырнадцать требовало), но они не стали для него адом – в аду книг не пишут. А он целых шесть написал. Сразу после вынесения приговора газета «Труд» обратилась к нескольким литераторам с просьбой высказать свое отношение к писателю. Мой коллега по «Новому миру» Юрий Кублановский, хорошо знающий Лимонова еще по эмиграции, ответил, что этот человек – «гремучая смесь немалых творческих способностей с мировоззренческой абракадаброй». Но высказал ему «искреннее сочувствие». А я – искреннее восхищение. Не политической его деятельностью, а его виртуозным умением строить собственную судьбу. «Самое захватывающее произведение Лимонова – это, бесспорно, его жизнь, о которой он так мастерски рассказывает в своих книгах».
Уже летом его освободили, а осенью, 25 ноября, во вторник, он был в Литинституте и при переполненном зале, ни разу не присев, делая маленькие шажки от стола до кафедры и обратно, отвечал на вопросы студентов и преподавателей. Не на все, однако: статус условно освобожденного обязывал его быть сдержанным, о чем он время от времени напоминал аудитории.
Я слушал его и вспоминал другой вторник, 3 марта 92-го года, когда он, недавно вернувшийся из эмиграции, еще без усиков и бородки, был гостем моего семинара. Перед началом встречи мы говорили с ним о его «Эдичке», которого у нас сравнивали то с «Лолитой», то с сочинениями маркиза де Сада. А по мне – это типичная русская книга. Герой по своему социальному темпераменту – современный Павка Корчагин, который, в свою очередь, вышел из гоголевской «Шинели» – откуда ж еще! Из той самой шинели, что сдирает с барского плеча взбунтовавшийся Акакий Акиевич. А еще – это книга об одиночестве.
Лимонов внимательно выслушал меня, поправил очки и возражать не стал.
Зная, что завтра в институт пожалуют гости из Парижа, Андрей Синявский и Мария Розанова, издательница «Синтаксиса», и уж студенты наверняка захотят узнать их мнение об авторе скандального романа, я во время встречи аккуратно поинтересовался, что думает Эдуард Вениаминович о «Синтаксисе». (Приличней, решил, спросить о журнале, нежели о людях.) Журнал Лимонов оценивать не стал, а вот об издательнице отозвался весьма доброжелательно, и Мария Васильевна на другой день – вопрос задали-таки – отплатила тем же. Хотя по своим политическим воззрениям они были на разных полюсах. Лимонов уже тогда ненавидел Запад и вовсю топтал демократов во главе с Ельциным, считая, что они развалили великое государство, а Синявский и Розанова на борьбу с этим государством положили жизнь. Но по глубинной сути своей Лимонов и Синявский показались мне схожими между собой. У обоих была судьба.
Эрик Берн утверждает, что у каждого человека есть свой жизненный сценарий – так вот, они свои жизненные сценарии реализовали сполна. Я о себе этого, увы, сказать не могу. Взращиваемые во мне с раннего детства недоверие к себе, неприятие себя не позволили – так я думаю – созреть личности. А то, что со временем начало формироваться под влиянием чтения и общения с людьми, многие из которых стали в этом тексте героями крупных планов, было в конце концов разрушено гипертрофированной рефлексией – мои литературные упражнения все больше обостряли ее. Теперь вот собираю уцелевшие осколки, как собирают специалисты фрагменты скелета, чтобы реставрировать облик давно погибшего человека.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу