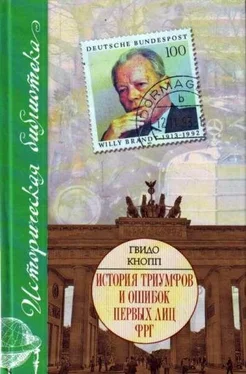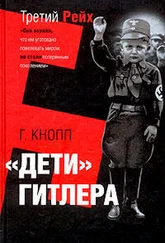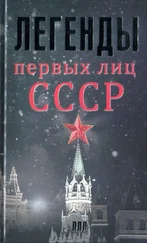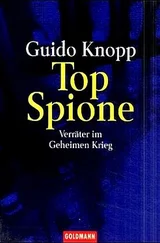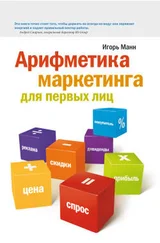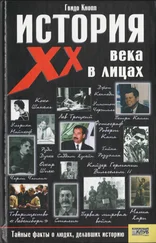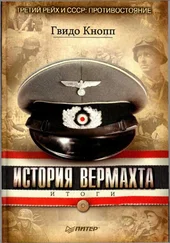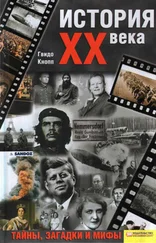В марте 1967 года, не договорившись с СДПГ, канцлер направил в Москву посла с секретной миссией — прощупать обстановку. Но Кремль не был расположен к переговорам. Брежнев даже предупредил о «гитлерском коварстве» новой «восточной политики» и ее «ориентации на агрессию». Он заявил, что коммунисты прекрасно видят, что хоть Бонн и протянул социалистическим странам руку, но в ней непременно должен быть камень.
При этом Кизингер даже начал забивать «священную корову» немецкой политики: он вырвал из оцепенения доктрину Хальштайна. Согласно этой доктрине Бонн готов был применить любые санкции, вплоть до разрыва дипломатических отношений с любым государством, признавшим ГДР. Еще перед образованием Большой коалиции Министерство иностранных дел смягчило это условие для стран соцлагеря, простив им признание ГДР, поскольку это являлось «недобровольным деянием». 31 января 1967 года были установлены дипломатические отношения с Румынией, в августе — открыто торговое представительство ФРГ в Праге. Несмотря на сопротивление своих коллег, Кизингер сделал еще один шаг, установив отношения с Югославией, которая не была членом Варшавского договора, поскольку в 1957 году, когда Тито признал ГДР, отношения были разорваны. Пусть канцлер по-прежнему настаивал на том, чтобы быть единственным представителем всей Германии, действовал он в очевидном противоречии с доктриной Хальштайна. Для Кизингера все эти действия были возможностью заниматься «восточной политикой» в обход ГДР.
Восточный Берлин реагировал на изоляционную тактику Кизингера с некоторой паникой, да и Москва видела во всем этом скорее попытку вырвать отдельные государства соцлагеря из железных объятий Кремля. Советский посол Царапкин позже с угрозой указал канцлеру на то, что «никому никогда не было дозволено вычеркивать даже одно-единственное государство, входящее в содружество социалистических стран». По просьбе Ульбрихта Кремль спешно отозвал своих наместников и выдвинул в переговорах с Бонном жесткие условия: признание ГДР и границы по Одеру — Найсе, недействительность Мюнхенского соглашения, а также присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия. По мнению Кизингера, это положило конец «восточной политике», поскольку в двух пунктах он ни на йоту не отклонился от политики Аденауэра: он не готов был признать границу по Одеру — Найсе и существование ГДР. Германская Демократическая Республика осталась для него «московским протекторатом», а значит — безымянным образованием. Это вело к неизбежной конфронтации с СДПГ, которая скрытно налаживала собственные контакты с Восточным Берлином и заявила о своей готовности забыть об основных позициях внешней политики ФРГ.
Когда 21 августа 1968 года советские танки загремели по пражским мостовым и раздавили цветы «пражской весны» в зародыше, настал черный день и для Кизингера с его попытками разрядки международной напряженности. В отношениях ФРГ — СССР снова наступила зима «холодной войны». Тем более Москва обвиняла «западногерманских империалистов» в том, что они поддерживали повстанцев в ЧССР. Предлогом для этих обвинений стало посещение Праги политиками социал-демократического толка и визит в ЧССР федерального президента Блессинга, который состоялся против воли Кизингера. Тогда Кизингер все еще мог успокаивающе заявить: «Мы будем последовательно продолжать “восточную политику”». Упрек де Голля правительству ФРГ в безответственных действиях попал точно в цель. Страх быть оставленными в беде западными партнерами по союзу и смятыми мельничными жерновами «холодной войны» крепко сидел в западных немцах. Любая дальнейшая инициатива была парализована. Канцлер не видел больше причин для односторонних уступок. Вилли Брандт пренебрежительно считал, что Кизингер неспособен решиться перепрыгнуть собственную тень.
Кизингер и его министр иностранных дел Брандт были символами коалиции, они поддерживали друг с другом вежливые, но прохладные отношения и предпочитали держать дистанцию. Эгон Бар полагал, что у них просто не совпадали химические процессы в организме. Застывший, как статуя, брюзгливый, раздраженный Брандт сидел рядом с Кизингером во время заседаний кабинета министров и говорил только самое необходимое. В большинстве случаев он молчал, свое молчание Брандт с удовольствием растянул бы на часы. Кизингеру его министр иностранных дел и заместитель казался на удивление «пустым», как «пробка, которую несет по течению реки». Брандт жаловался, что Кизингер не дает ему «достичь своего расцвета».
Читать дальше