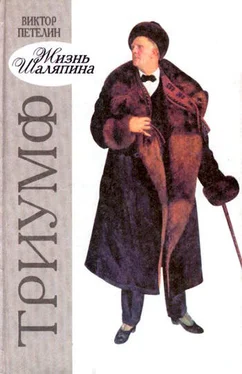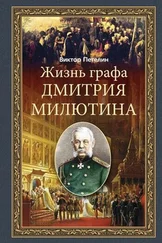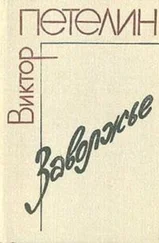– Конечно, ты прав, Алексей, терпение на исходе, моя Мария все время мне твердит, что надо бежать… Но как? Это не так легко. Блокада, а в такое время не проберешься через границы. Как только вспомню про эту блокаду, так тут же меня охватывает отчаяние. И не только отчаяние, но и страх. А ведь я не политик, чужд всякой конспиративности, никаких грехов за собой не чувствую против новой власти, чувствую лишь отвращение к укладу жизни, который установился за последние два года. Вроде бы у меня нет никаких оснований бояться и каких-либо репрессий. А тем не менее я испытываю постоянно неодолимый страх, то за себя, то за Машу, которую могут совершенно спокойно отправить грузить дрова или рыть окопы, за детей, которые могут замерзнуть без дров и остаться без хлеба и самого необходимого, просто страх из-за того, что отсутствует та сердечность и те простые человеческие чувства и бытовые отношения, к которым я уже привык за свою жизнь. Что-то произошло с русским человеком, его словно бы подменили, вложив в него чужую душу, чужой характер. Я начал замечать полное отсутствие сердца. Ты замечаешь, что жизнь становится все официальное, суше, бездушнее. Даже в собственном доме замечаешь похожие перемены, уже не дом, а какой-то департамент, где все стали какие-то полуиспуганные…
– Верно подмечаешь эти перемены, доносы и доносчики сейчас в моде и в цене… Какая уж тут сердечность и простота, а уж о свободе и равенстве и говорить-то нечего… Вспоминаю, как Лев Толстой оборвал Леопольда Сулержицкого, на устах которого в то время мелькало словечко «свобода»: «Ах, Левушка, перестань, надоел, – с досадой оборвал его Лев Николаевич. – Твердишь, как попугай, одно слово – свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь если ты достигнешь свободы в твоем смысле, как ты воображаешь, что будет? В философском смысле – бездонная пустота, а в жизни, в практике – станешь ты лентяем и побирохой. Что тебя, свободного в твоем-то смысле, свяжет с жизнью, с людями?»…
Горький замолчал, мучительно вспоминая, а потом махнул рукой, порылся на столе и нашел газету «Жизнь искусства».
– Только что вышли мои воспоминания о Льве Толстом, хочу процитировать тебе точные слова нашего учителя… Вот, слушай… «Вот птицы свободны, а все-таки гнезда вьют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство свое где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь – почувствуешь, что в конечном смысле свобода – пустота, безграничие.
Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:
– Христос был свободен, Будда – тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого – никто не ушел, никто. А ты, а мы – ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми, а не будь этих чувствований – жили бы мы как звери…
Усмехнулся:
– А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого не много, но уже и не мало. Ты вот споришь со мной и сердишься до того, что нос у тебя синеет, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так укокошил бы меня – только и всего.
И, снова помолчав, добавил:
– Свобода – это когда всё и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому, что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях».
Горький положил на стол газету и сказал:
– Одно время я часто бывал у Льва Николаевича, и он разрешал мне тут же записывать за ним, накопилось довольно много отрывочных заметок, небрежно написанных на разных клочках бумаги, думал, что потерял их, а оказалось, они хранились у Екатерины Павловны вместе с другими моими набросками. Хорошо, что она сохранила их. Есть любопытные высказывания Льва Великого, как вот о свободе. Матерый человечище, как сказал о нем Ленин… Если Лев Николаевич хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Вот вспоминаю, сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает им учение Лао-тце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный оркестр, человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах – на медной трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз – и не увижу больше никогда, – с грустью закончил Горький.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу