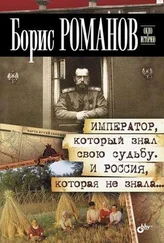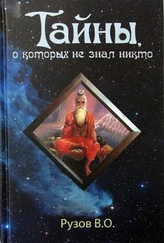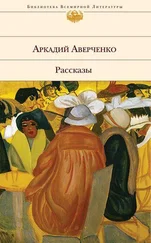В 1935 году А. Д. Попов ушел в Театр Красной Армии и забрал меня с собой. И я читал еще три года в этом театре. Но там было очень неуютно: архитектор Алабян построил нелепейшее сооружение, очень пригодившееся фашистским летчикам, удобно ориентировавшимся по нему в своих полетах над Москвой в 1941 году, но для работы театра абсолютно непригодное. Фаворский написал монументальный раздвижной занавес — его пришлось превратить в неподвижный, закрыв на три четверти. Фрески Дейнеки трудно было даже разыскать в путаном интерьере.
К этому времени я, видимо, стал модным лектором и в 1935 году был приглашен в Малый театр. Я с великим отвращением еще с 20–х годов относился к этому театру, но из любопытства решил посмотреть, каким он стал через десять лет после последнего моего посещения этого театра — мифа, нисколько не соответствовавшего постоянно произносимым хвалебным речам о нем. Но мой новый опыт только убедил меня, что этот миф меняться не способен. Меня слушали почтенные старые актеры, толстые, какие- то опухшие, с обвислыми щеками, чуть ли не лежащими на плечах, и очень толстые, еще более почтенные седовласые актрисы, весьма сильно раскрашенные. Молодежи передо мной не было — то ли ей было неинтересно, то ли ей не полагалось повышать свою квалификацию. И эти актеры все, что я показывал, воспринимали примитивно — натуралистически: «Как же египтяне могли ходить, если у них плечи были развернуты к зрителям, а ноги повернуты вбок?» Они не могли понять ни малейшей условности — только как у передвижников, ни шагу дальше. Я не смог выдержать больше трех лекций при таком абсолютном непонимании искусства и сбежал из этого безнадежного места.
С этим Институтом повышения квалификации творческих работников я до сезона 1938/1939 года был связан не только лекциями в Театре Красной Армии, но и лекциями на полусамостоятельном факультете повышения квалификации художников в возрожденном из небытия в 1935 году Московском художественном институте. Читать там лекции было гораздо легче (а в чем‑то и интереснее) — меня слушали взрослые профессиональные художники, которые прекрасно знали необходимость глубокого понимания классического и современного искусства Запада и задавали разумные вопросы. Эти лекции стали для меня своего рода «трамплином» для многолетней постоянной работы в Московском художественном институте в качестве доцента, а потом и профессора.
Думаю, главной заслугой меня, как лектора, было то, что я читал без всякой воды словесной, без всяких ненужных повторений. Надо сказать, что с самого начала у меня была одна особенность в моих лекциях — я их никогда не записывал и никогда их поэтому буквально не повторял. Я каждый год каждую лекцию читал заново, как будто в первый раз, потому что я за год узнавал что‑то новое, успевал заказать и новые стекла, и, наконец, мне было просто самому интересно читать вновь, а не повторять что‑то по бумажке.
Иногда я об этом жалею, потому что таким образом получилось, что лекции по всеобщей истории искусств, которые я читал в течение 30 лет, так и остались только в воспоминаниях тех, кто меня слушал. Кому‑то они пошли явно впрок, а кому‑то впрок они явно не пошли, как это потом многократно обнаруживалось. Мои внуки попробовали как- то подсчитать и пришли к заключению, что у меня было за мою педагогическую деятельность минимум три с половиной тысячи учеников. Когда со мной сейчас здороваются какие‑то бородатые пожилые люди, я совершенно не могу сообразить, кто это такие, пока они мне не представятся.
Но эта встреча с большим числом художников — живописцев, скульпторов, графиков, театральных художников — была в моих, с каждым годом все стремительнее расширявшихся, связях с художниками не началом, а, наоборот, одним из далеких результатов уже давно сложившихся связей, ставших одной из важнейших сторон всей моей жизни.
Начало знакомств с художниками — посетителями Гравюрного кабинета. Родионов, Фаворский, Штеренберг, Гончаров, Купреянов, Шевченко, Бруни, Татли
Начало возникновения этих все более широких связей коренилось в Музее изобразительных искусств — с тех пор как я стал ученым секретарем музея и в еще большей степени, когда стал заведующим отделом советской графики в Гравюрном кабинете.
До этого я знал только двух художников: совсем мимолетной была поездка к Евгению Евгеньевичу Лансере, зато бесконечно важнее — знакомство с Анной Семеновной Голубкиной (о чем я уже рассказал выше). Голубкина дала мне самое высокое представление, что такое подлинно великий, даже гениальный художник, и мне не приходилось удивляться, встречая художников, близких или даже равных ей по силе и глубине своего божественного дара. А я был знаком или близко дружен со всеми советскими художниками такого ранга, не считая, конечно, тех, что уехали за границу или умерли до того, как я стал заниматься советским искусством!
Читать дальше