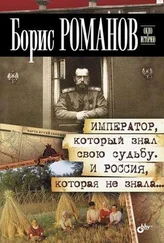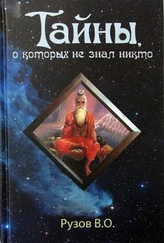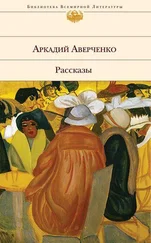Осенью первого года в здравнице один из врачей предложил мне работу зимой у него в туберкулезной поликлинике, и я согласился. Я делал там то же самое, что в здравнице, только при гораздо худшем начальстве: этот доктор Хачиков (вернее, Хачикян) был очень ленивым и неаккуратным, постоянно опаздывал к приему посетителей, вызывая недовольство у бесконечно ожидавших его больных. За всю зиму 1919–1920 года в поликлинике было только одно очень меня огорчившее событие. Я утром ушел в Губ- здравотдел, а когда вернулся и вышел из комнаты в коридор, то увидел уходящего Иванова — того молодого высокого белокурого наборщика, с которым подружился летом в здравнице. Он пришел без меня, и его записала медсестра. Я с радостью бросился к нему, но он улыбнулся мне и остановил рукой, сказав: «Не подходи ко мне, у меня тиф», — и ушел, закрыв за собой дверь. У него был туберкулез в далеко зашедшей степени, и он вряд ли мог вынести сразу две тяжких болезни.
Я ходил в поликлинику с Вознесенской улицы на Армянскую, бывшую у самой Волги, через весь город. Зимой это было сравнительно нетрудно, но весной 1920 года обернулось бедой. Я щеголял в валенках, у которых совсем оторвались подошвы, и эти подошвы были крепко привязаны накрест толстыми красными шнурами с первомайских знамен. В этой не слишком надежной обуви зимой по снегу ходить было все же спокойно. Но в городе всю зиму снег не убирали, и ранней весной он в один прекрасный день весь растаял сразу. В городе, расположенном на гористом берегу Волги, началось бурное наводнение. Мне в тот день пришлось идти на службу по сплошной воле, и мои гордо независимые подошвы пропустили в мои валенки ледяную воду со всего Саратова. Я жестоко простудился, и так как заменить негодные валенки было нечем, пришлось уйти с работы в поликлинике.
Я уже упоминал, что в наследство от этой поликлиники мне достался начавшийся туберкулезный процесс, быстро и энергично ликвидированный Николаем Яковлевичем Трофимовым и страшно напугавший мою маму.
Второе лето в здравнице, в 1920 году, не оставило в моей памяти каких‑либо существенных воспоминаний, кроме все более углублявшейся дружбы с Федором Марковичем Фальковичем.
В зиму 1920–1921 года мама не пустила меня работать, и я всю зиму просидел дома, разумно решив серьезно заняться своим образованием — и так два года были пропущены впустую. Я принялся за чтение тех книг из отцовской библиотеки (перевезенной из персидского консульства еще ранней весной 1919 года), которых не читал раньше, а также маминых книг, появившихся в нашем доме, когда мама поступила в Саратовский университет. Я принялся за брокгаузовский энциклопедический словарь и прочел все статьи по истории, философии и религии. Меня поразила блистательная статья Владимира Соловьева о Гегеле, и, вероятно, благодаря этой статье я пришел к заключению, что мои взгляды на мироздание всего ближе к Гегелю и Спинозе. Не скажу, чтобы я сумел сразу разобраться в прихотливом калейдоскопе человеческих размышлений и духовных исканий, но шаг в моем образовании был сделан немалый. Я все же основательно пополнил свои знания в естественно — исторических науках знаниями в науках гуманитарных.
Третье лето в здравнице, в 1921 году, получилось очень грустное из‑за тяжелой маминой болезни и болезни Кости Гришфельда, а закончилось очень для меня печальным экспериментом с курами, о чем я уже рассказал. Зиму 1921–1922 года я снова занимался своим образованием, прочел впервые очень много книг. На этот раз я добрался до религиозно — философских сочинений Льва Толстого, которые произвели на меня большое впечатление своей страстностью и несокрушимой убежденностью, при всей явной неоригинальное и даже примитивности. Я прочел тогда впервые и художественные произведения Толстого, почти все. Я отдал дань великому роману «Война и мир» — за исключением трех эпизодов, глубоко меня возмутивших и бесспорно выпадающих из общего строя романа: это были, во — первых, нелепые рассуждения Толстого об истории, во- вторых, абсолютно фальшивый образ Платона Каратаева и, в — третьих, непонятное настойчивое стремление разными способами дискредитировать прекрасный образ Наташи Ростовой — в совершенно неправдоподобном эпизоде с Анатолем Курагиным и в старательном снижении образа Наташи в эпилоге романа.
«Анна Каренина» и «Воскресение» мне решительно не понравились, и перечитывать их мне никогда не захотелось (подобно академику Лихачеву). Чтение же религиозных произведений Толстого имело существенное продолжение в Москве, о чем расскажу в свое время.
Читать дальше