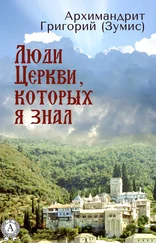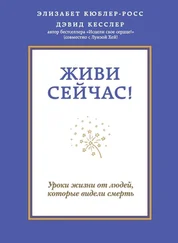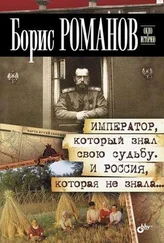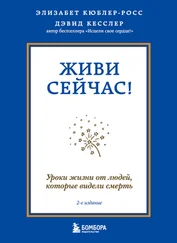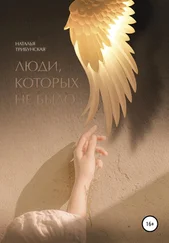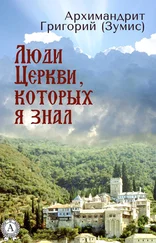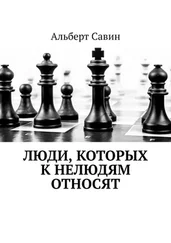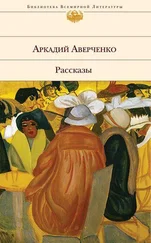В завершение повествования о моем детстве я хочу коротко сказать о двух вещах, имевших отношение не ко мне, а к старому Саратову, — о саратовских мальчишках и саратовских частушках.
Пристани на Волге и ее берега были густо «заселены» мальчишками. Из кого они вербовались — из лодырей, пропускавших уроки, или прямых беспризорников — не знаю. Я иногда наблюдал их по воскресеньям, не участвуя в их затеях и делах. Эти ребята жили рекой. Они приветствовали криками проходившие пароходы и добрыми напутствиями — отплывавшие. Они досконально знали ремесло речников; я думаю, что из них выходило немало хороших матросов, а может быть, и капитанов тех пароходов, что бороздили воды великой реки на всем ее долгом протяжении.
Они могли по звуку определять, какой пароход подходит: самого парохода еще не было видно, а они по его сигналам различали с полной точностью, идет ли белоснежный пароход компании «Самолет» или красный с черным пароход компании «Кавказ и Меркурий». Откуда, кстати, взялось такое нелепое название пароходной компании? Надо думать, две компании слились и пожелали все же сохранить их прежние самостоятельные названия. Пароходы компании «Самолет» считались, безусловно, лучшими, и мальчишки эту разницу отчетливо отмечали.
Хочу добавить еще одну деталь о саратовских пристанях. С этими пристанями на Волге связано не только воспоминание о реке, о пароходах, их разнородных гудках, но и еще с двумя занятными деталями, которые только тогда и могли быть — с камышинскими арбузами и саратовскими частушками.
Камышинские арбузы были гигантских размеров, ослепительно белые, с очень тонкой коркой, поэтому их бросать как обычные арбузы было нельзя. Их можно было только нести почтительно и перекладывать с величайшей осторожностью. Но под этой самой белоснежной корой была ослепительно красная мякоть, состоявшая из чистейшего сахара. Я никогда больше нигде таких арбузов не видел и даже не знаю, существует ли теперь нечто подобное.
Что касается саратовских частушек, я слышал их очень много, и дореволюционных, и послеоктябрьских. Такое фольклорное творчество хорошо отражает время. Но все- таки между двумя историческими этапами оказывалась в данном случае большая разница. Дореволюционные частушки были, в общем, довольно бессмысленными, часто шутовскими и развлекательными. Вот, например, такая:
У попа‑то, рукава‑то —
Батюшки!
Ширина‑то, долина‑то —
Матушки!
Или еще более экстравагантная:
Шла машина из Тамбова —
Се — ре — жа.
Под горой котенок спит —
Ну так что жа?
Правда, в эту последнюю частушку, при всей ее нелепости, проник все же маленький клочок реально бывшей истории: ведь железная дорога к Саратову первоначально была начата не с Рязани, а с Тамбова, и это важное для всей этой части России событие успело увековечиться в частушке.
После революции характер частушек радикально изменился — они стали реально связаны со своим временем, хоть и не слишком для этого времени лестно. Вот, например, так:
Ленин Троцкому сказал:
Пойдем, Троцкий, на базар,
Купим лошадь карюю,
Накормим пролетарию!
Или еще хлеще:
Матрос молодой,
В спину раненный,
На базаре спекульнул
Рыбой жареной.
Я смягчил не совсем изящное звучание текста этой частушки. Но эти творения подлинно народного наблюдения и размышления не стеснялись в выражении результатов своих наблюдений действительности и размышлений по ее поводу.
Жизнь в Саратове в первые годы революции (1918–1922). Работа А.Ч. в туберкулезном санатории
Февральскую революцию я, можно сказать, увидел воочию из окна своей комнаты. Услышав крики на улице, я подошел к окну и увидел, что по противоположной стороне Немецкой во всю прыть удирает городовой, придерживая руками свою шашку и полы шинели, а за ним несется кричащая и улюлюкающая толпа, его ловящая. Это зрелище стало как бы символическим обобщением смысла Февральской революции. Но, как я уже говорил, ни она, ни Октябрьская революция долго не вносили существенных перемен в повседневный обиход провинции, далекой от Москвы и Петрограда. Летом 1917–го и 1918 года мы жили на дачах на разъезде в семи верстах от Саратова; зиму 1917–1918 года я ходил в третий класс своего училища; летом 1918 года поехал с отцом в Царицын, и только когда мы доплыли до Астрахани и должны были из‑за военных действий тотчас же вернуться в Саратов, я ощутил достаточно отчетливо, что произошли великие перемены во всей нашей жизни. Я удивил маму, вернувшись из Царицына с бровями — до тех пор они были почти незаметны, а тут вдруг сильно потемнели.
Читать дальше