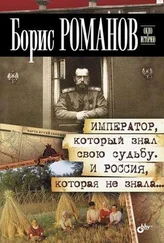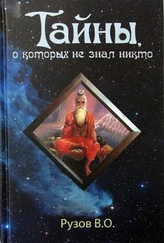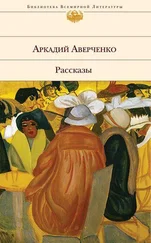Получили ли вы все мои письма? Это, как будто, уже тринадцатое по счету, если я не сбился. Так что в среднем выходит одно письмо в каждые два дня почти. Я хочу столько же получить от вас. Всем от меня кланяйтесь, потому что я никому больше не пишу, нет времени. Я на днях начал — по десять строчек зараз! — читать то, о чем мечтал чуть не пятнадцать лет безнадежно: стихи Райнера Марии Рильке. И мои ожидания не обмануты. Кстати, на днях я у него нашел чудесный перевод лермонтовского «Выхожу один я на дорогу»! Но читать тоже некогда.
Я так стараюсь все время представить себе, как вы живете. И беспокоюсь — бесформенно, но тоже все время.
Я очень хочу вас видеть. Целую вас обеих крепко — крепко тысячу миллиардов раз. А.
Поцелуй Виктора Никитича, Веру Николаевну, Алпатова. И еще специально Татьяну Борисовну — я о ней почему‑то много думал сегодня.
1/IV-45
Наташенька и Машукушка, мои милые, любимые!
Это письмо, вероятно, дойдет быстрее, потому что будет опущено в Москве (наш генерал едет туда). Я не писал несколько дней — все ждал, не будет ли письма от вас, но так и не дождался еще ни одного. Правда, никто из нашей группы еще не получил тоже, так что этим я утешаюсь, но очень скучаю и тоскую без писем. Отсутствие всяких сведений о вас — самое трудное в моем путешествии и пребывании здесь, на фронте, — все остальное пустяки, хотя и утомительные физически.
Работы уйма, и конца ей не видно, поэтому планы вернуться в Москву в апреле очень неопределенные. Может случиться, что мы (закончив первый этап работы) приедем в Москву для отчета и для решительной реорганизации всего плана нашей деятельности, но, может быть, в Москве и сами сообразят, что делать, и пришлют нам людей и инструкции. Тогда я могу застрять здесь еще на 1 [27] Отцовские студенты из Художественного института.
/ 2— 2 месяца. Втроем работать немыслимо, это на годы, а не на месяцы дела. Но в Комитете как всегда удивительно легкомысленно и беспечно обо всем думают. Если бы у меня было хоть три помощника (а надо бы тридцать!), как, например, хоть те же Суздальцев, или Сатель, или Володин* — я бы сделал вдесятеро больше и в двадцать раз скорее. Слава богу, у нас есть автомобиль, а то раньше и его не было. Мы живем все время на одном месте, в одной и той же специальной гостинице, и уже отсюда ездим по всему фронту, на 30–50—200 и т. д. километров, куда нужно. Поэтому моя жизнь представляет сочетание очень однообразного и устойчивого бытового распорядка (с одинаковым каждый день, если не ночуем где‑нибудь в другом городе, что бывает редко, — чередованием вставания, умывания, еды и отъезда на нашей машине, с установившимися привычками, в одной и той же комнате и т. д.) и чрезвычайно пестрой смены дорожных впечатлений, самых разнообразных и неожиданных. Жалко, что я не могу в письмах описывать свои приключения, более конкретно и подробно — приеду, расскажу. Основное — одинаково всегда: почти без исключения (хотя бывают и они!) очень приятные встречи с нашими — русскими — людьми — хороших людей сколько угодно и они много помогают — и, с другой стороны, постоянное и лишь углубляющееся и укрепляющееся резко отрицательное впечатление от Германии.
Германия — отвратительна, быть в ней — тяжело и противно, все, что о ней у нас писалось в газетах, — это только какая‑то тень того, что она представляет собой на самом деле. Это какая‑то уродливая, выродившаяся культура, которая — если ее не истребить до самых корней — может быть только источником разложения и одичания для других народов и стран. Немцы связаны круговой порукой; Германия столько награбила по всей Европе, что люди жили здесь до самого конца припеваючи и даже не подозревали (тупые немецкие башки!), что кому‑то от войны плохо. Германия потому так упорно и защищается до сих пор, что у нее грандиозные запасы продовольствия и военного (и всякого другого) снаряжения, потомучто у «крестьян» Силезии находили наши во дворах по 100 коров! А русские военнопленные и угнанные на работу жили — тут же, в этой обильной и сытой обстановке — вымирая от голода, в грязных хлевах — бараках, на каторжной работе. Лишь ничтожное меньшинство немцев — люди нормального сорта — интеллигенты, рабочие, даже уцелевшие в подполье коммунисты, которые нам теперь помогают вылавливать фашистов и налаживать работу заводов, но их очень мало. Огромная масса — это то самое самодовольное, глупое, грубое, жестокое мещанство, которое совершенно естественно породило, как свое «высшее» достижение, фашизм, со всей его идиотски — звериной системой рассуждений и поведения. Я бы выселил немцев из этой земли всех вон, расселил бы их по свету, чтобы они не могли нигде больше собраться, ни в какой Аргентине, чтобы корней этой системы не осталось. А то они уже, проигрывая войну, откровенно и деловито готовятся к новой войне — я ведь слушаю их радиопередачи! [28] Читатели знают: я никогда не занимаюсь идеологической или моральной цензурой текстов издаваемых книг, но чудовищная несправедливость этого мнения о немцах вынуждает меня (читающего эту верстку в Берлине) заявить: Андрей Дмитриевич, вы не правы! И, кстати, как это он не замечает, что предлагает сделать с немцами то же. что другие хотели сделать с евреями? — Издатель.
Читать дальше