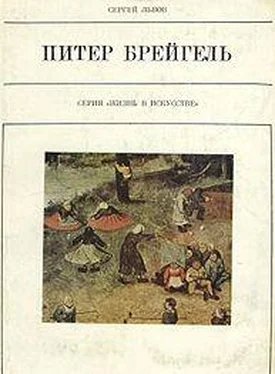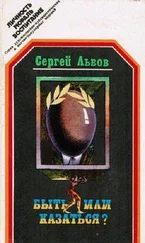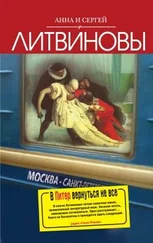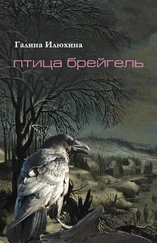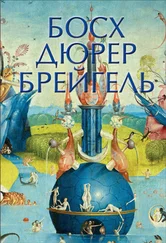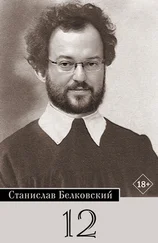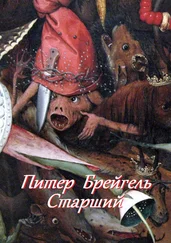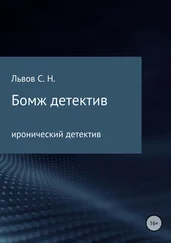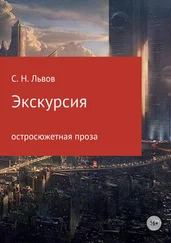«С этим Франкертом Брейгель часто ходил по деревням, когда там происходили ярмарки и свадьбы. Они являлись на свадьбы переодетыми крестьянами и, выдавая себя за родственников либо жениха, либо невесты, подносили, как и другие, подарки. Здесь Брейгелю доставляло удовольствие следить за теми безыскусственными приемами крестьян в еде, питье, танцах, прыганье, ухаживании за женщинами и других забавах, которые он так красиво и смешно воспроизводил…»
Эти слова ван Мандера относятся и к более ранним годам и к более ранним картинам, чем те, о которых речь идет сейчас. Веселая усмешка над забавными обычаями крестьян, взгляд со стороны и несколько свысока им не присущи. В эти более поздние годы художник приходил в деревню по-другому и видел в ней другое. Недаром в тот же самый год, когда были созданы эти картины, возник его замечательный рисунок «Лето».
Поле. Жара. Косари. Несколько косарей еще косят. Один, запрокинув над головой большой жбан и припав к нему губами, жадно пьет. Он пьет так заразительно, что чувство утоляемой жажды передается зрителю.
Такие могучие тела на этом рисунке, такая сдержанная сила в движениях, так монументально все изображенное, что рисунок иногда сравнивают с работами Микеланджело.
В этот трудный год, которому было суждено стать предпоследним годом жизни Брейгеля, он шел в деревню не забавы ради, хотя и видел все, что было забавно, — малыша, утонувшего в огромной шляпе в «Свадьбе», неловко целующуюся пару в «Танце», — нет, он шел сюда в поисках новой опоры, новой надежды. Если это так, взглянем, пожалуй, еще раз на одну из его поздних работ. Ее называют иногда «Сорока на виселице», иногда «Танцы под виселицей». Мы говорили о ней прежде. Попробуем взглянуть на нее снова и по-иному.
В деревне был праздник. Деревенская улица стала тесна его участникам. Пляшущие пары вышли из деревни и, не прекращая танца, движутся сквозь рощу, залитую и пронизанную солнцем. Они выходят на опушку. Их глазам предстает стоящая на невысоком бугре отвратительно раскоряченная виселица. Сорока сидит на ее перекладине. Двое мужчин остановились перед виселицей. Один из них указывает на нее и что-то говорит, другой смотрит, следуя взглядом за его жестом. А остальные? Не заметить виселицу, к которой их привел веселый танец, они не могут. Если они и не видят ее сейчас, то помнят о ней. Она не сегодня появилась на этой лужайке. Но если нельзя выйти за околицу, чтобы не натолкнуться на виселицу, что же, значит, надо заживо себя похоронить? Ну нет. Этого от них не дождутся! Они продолжают танец, а один из них, отделившись от остальных, выражает свое презрение к устрашающей виселице самым грубым образом — устраивается недалеко от нее по нужде.
Поразительная картина! В ней есть все черты Брейгеля — откровенная сниженность жанра, в ней есть аллегория, но сильнее всего — пейзаж: извивы реки, просторы лугов, дальние горы, распахнутый, зовущий к движению горизонт.
Виселица не может остановить праздник и пляску, виселица не может зачеркнуть и уничтожить красоту огромного мира; виселица не может остановить исканий художника, который видит эту красоту с прежней и новой силой.
Брейгель уже бессчетно писал деревья, реку, горы, дальние города, заречные луга. Но на этой картине все похоже и непохоже на пейзажи, написанные раньше. Ни он сам, ни кто другой до него или в одно с ним время не передавал так воздушную дымку, размывающую очертания дальних гор, тончайшие цветовые переходы листвы, в которой дрожат и вспыхивают солнечные лучи, стены дальних домов, голубовато-серых в тени, золотисто-розовых на солнечном свете. Глядишь на эту картину, и кажется, что художник, создавая пейзаж, сотканный из воздуха и света, провидит отдаленное веками будущее живописи, предвосхищает ее развитие.
Да, этот год был трудным и страшным, но именно в этот год Брейгель не только не остановился в своих исканиях, но нашел новые средства, чтобы передать все, что открыла внимательному взгляду художника природа. Здесь ничего не осталось от традиционного деления пейзажа на несколько отграниченных друг от друга планов; переходы изменчивы, созданы воздухом и трепещущим светом. Представить себе невозможно, что картина писалась не с натуры, не на воздухе, но по памяти и в мастерской. Ровесница «Крестьянской свадьбы» и «Деревенского танца», она словно бы принадлежит иному времени.
Зоркость глаза, цепкость памяти, свежесть восприятия, отбрасывающего все привычное, даже собственные прежние завоевания, изумляют и восхищают. Знал ли художник, к каким открытиям будущего приблизился?
Читать дальше