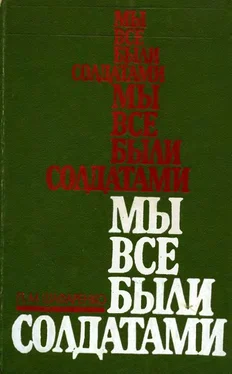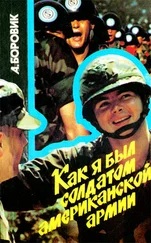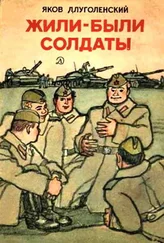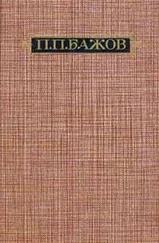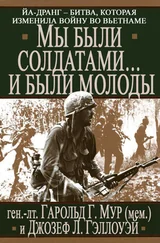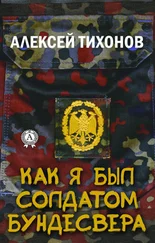— Вы, кажется, участвовали в этой операции? — спросил командующего Николай Евлампиевич Чибисов.
— Да! И пришел к очень интересному выводу. Успех вдохновляет войска, но в ряде случаев притупляет их бдительность, остроту оценки обстановки командирами и штабами. Вот посудите сами. Выход наших войск в феврале 1943 года к Днепру у Полтавы, Днепропетровска, Запорожья создавал для гитлеровцев критическую обстановку. Дальнейшее развитие наступления грозило им рассечением Восточного фронта и потерей Левобережной Украины. Не допустить этого — такова была ближайшая задача гитлеровского командования. Была и еще одна задача — реванш за Сталинград.
Пользуясь отсутствием второго фронта, немцы начали сосредоточивать в районах Краснограда, Красноармейского крупные силы танков, мотопехоты, артиллерии и авиации. Связанные с этим перегруппировки и частичный отвод войск командование Юго-Западного и Воронежского фронтов посчитало началом отхода противника за Днепр и требовало от армий повысить темпы наступления, захватить плацдармы на правом берегу Днепра до начала распутицы.
Сопротивление врага все время возрастало. Мы шли вперед, хотя условий для этого уже не было. Войска оторвались от баз снабжения, дороги и мосты разрушены, потери в людях и технике не восполнялись. В подвижной группе войск Юго-Западного фронта, которой я в то время командовал, в танковых корпусах оставалось по 8—15 исправных машин. Отходя, противник разрушил в прифронтовой полосе аэродромы, и соединения почти полностью лишились поддержки авиации.
Взяв со стола лист чистой бумаги и цветной карандаш, Маркиан Михайлович в ходе дальнейшего разговора пояснял его тут же набросанной схемой.
19 февраля враг неожиданно перешел в контрнаступление. Танковый корпус СС из района Краснограда нанес сильный удар по правому флангу 6-й армии Юго-Западного фронта. К исходу дня в ее полосе образовался 35-километровый разрыв, не занятый войсками. Одновременно 40-и танковый корпус врага, поддержанный крупными силами авиации, нанес из района южнее Красноармейского встречный удар по подвижной группе фронта. Против оставшихся у нас в первой линии 15—20 боевых машин действовало около 200 танков немцев. Охватывая подвижную группу с трех сторон, враг начал ее теснить и к исходу 21 февраля захватил Красноармейское.
На следующий день в контрнаступление навстречу танковому корпусу СС перешел 48-й танковый корпус немцев. 23 февраля они соединились в районе Павлограда и устремились на Лозовую — Харьков. С тяжелыми боями войска правого крыла Юго-Западного фронта были вынуждены отойти за реку Северский Донец. Левое крыло Воронежского фронта оказалось открытым. Мы вторично потеряли Харьков…
— Вовремя остановиться — не простая задача, — заметил Н. Е. Чибисов. — В условиях успешного наступления и особенно преследования трудно определить момент, когда противник пришел уже в себя, готов к ожесточенному сопротивлению, а часто и к реваншу. Да и надо преодолеть свой собственный психологический барьер, вызванный успехом, чтобы можно было здраво оценить обстановку…
…27 января 1944 года. В тот день мы узнали о полном освобождении от вражеской блокады города Ленина. В первые мгновения энтузиазм и радость, казалось, вытеснили все другие чувства и мысли. И лишь когда мы успокоились, пришли раздумья. С чем сравнить эту победу? По военной значимости ее, наверное, можно поставить в один ряд с разгромом гитлеровцев под Москвой и Сталинградом. По моральное значение снятия блокады с голодающего, расстрелянного Ленинграда нельзя было сравнить ни с чем…
Город этот был мне особенно дорог. В нем прошли мои студенческие годы. Какое это было время! Нам — сиротам и бывшим беспризорникам, детям рабочих и крестьян, Советская власть открыла дорогу в жизнь. В 1928 году двадцатилетним пареньком с путевкой грозненского профсоюза строительных рабочих я впервые приехал в Ленинград для сдачи вступительных экзаменов. Звон трамваев, гудки машин, на улицах и проспектах шумные толпы людей…
Ученье доставалось тяжело. Стипендии не хватало. Приходилось подрабатывать. Я поступил кочегаром в одну из лабораторий академика А. Ф. Иоффе, находившуюся поблизости от Политехнического института. Работать приходилось ночью. На лекциях хотелось спать, даже простые вопросы воспринимались туго. По молодость, дружба, революционная романтика того времени помогали во всем. В 1932 году, окончив Ленинградский институт инженеров путей сообщения, куда меня перевели из Политехнического, я был призван по спецнабору в Красную Армию…
Читать дальше