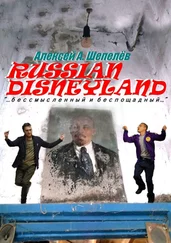— Пойдём, посмотрим то место, где сидели. Ты помнишь тот день?
— Помню. Конец августа, запах полыни, солнце, голубая вода. Мы мечтали о море, и ты говорила, что обязательно увидим его, настоящее море. Я всё помню, каждую нашу минуту.
— А где мы сидели? Покажи.
— Вон там, на бугорке, у той ивы.
Они подошли к старой одинокой раките. Тогда, в конце августа, она склонялась к воде жухлой, но ещё зелёной листвой, а сейчас над снегом торчали её кривые чахлые сучья.
— Как грустно смотреть на прошлое, — сказала Аня. — Когда-нибудь мы, старенькие, пройдём с тобой по местам нашей молодости и всё вспомним. Ой, даже сейчас хочется плакать. Может, лучше не оглядываться? Идём.
Они повернулись и пошли обратно по своим следам. Николай хорошо видел при луне отчётливые отпечатки её бот на сырой пороше и думал, что и это нот запомнится навсегда, как запомнился запах августовской полыни.
— А снег этот растает, — сказала Аня.
— Тебе не холодно?
— Нет, я согрелась. Мне там было холодно, у гостиницы.
— А всё-таки дождалась, но ушла.
— Я всегда тебя буду ждать до конца.
Нет, она, конечно, осталась верной своим словам.
И ничего страшного с ней не случилось. Кто-то, может, тот же Гутман (откуда он всё-таки взялся?), выхлопотал ей свободу, её выпустили из казанской тюрьмы, но отправили под гласный надзор в Царицын, и она там ждёт, а не пишет только потому, что не хочет, чтоб в её интимные письма заглядывали полицейские и тюремные чиновники. Она ждёт, иначе и быть не может, и нечего было падать духом. Всё идёт к лучшему. Вчера на прогулке, спасибо доброму надзирателю, удалось увидеться (Ягодкина не выпустили) с Масловым. Друг здоров и даже весел, и встреча с ним подняла настроение — снова захотелось жить и работать. Да, теперь можно приняться за работу, начатую в Ключищах. Казанские экономические заметки, написанные в губернской тюрьме, лежат в сохранности в здешнем цейхгаузе, и есть надежда, что их выдадут. В камере появились книги и бумага. Теперь бы побольше свободного времени, а его отнимает вот эта чертовщина.
Николай сидел на табуретке, клеил папиросные коробки и клал их в стопу на стол. Надо было торопиться, чтоб закончить урок до прогулки. В коридоре сегодня дежурил старый службист, прогулка не обещала встречи с друзьями, зато сулила настоящее весеннее солнце: на чёрном полу лежал квадрат света, такой отчётливый и ясный, какого ещё не приходилось здесь видеть.
Он склеил последнюю коробку и стал переносить стопы в угол камеры, где за неделю вырос целый штабель его изделий. Сегодня суббота, вечером придёт мастер-надзиратель, он примет работу, и в камере станет свободнее. Что-то долго не выводят на прогулку. Ага, по лестнице, слышно, поднимается коридорный надзиратель. Сейчас он пройдёт по балкону к последней камере и оттуда начнёт открывать двери — все подряд, пропустит только две из трёх, за которыми сидят политические. Кому же сегодня выпадет гулять с этой партией? Ягодкину, соседу или ему, Николаю?
Он приникает к закрытому дверному окошку и слушает. Надзиратель неторопливо проходит мимо, удаляется в конец балкона и начинает открывать камеры — первую, вторую, третью… Камера Ягодкина — пятая от края. Надзиратель, судя по шагам, минует её, оставляя запертой. Значит, выходить в этой очереди теперь уже одному из двоих политических. Лязг открываемых дверей приближается. Соседнюю камеру надзиратель пропускает. Николай берёт с вешалки шапку и шинель, снова поворачивается к двери, и она распахивается перед ним. Мимо идут уголовные арестанты. Николай пережидает, потом выходит на балкон, останавливается и смотрит через железные перила вниз, но голова теперь не кружится, как закружилась полтора месяца назад, когда он однажды подумал о прыжке.
— Эй, чего там остановился? — кричит снизу старший надзиратель, который стоит на перекрёстке коридоров и видит все четыре яруса во всех четырёх отделениях. — Шагай, шагай!
Николай улыбнулся и быстро пошёл по балкону. Уголовные уже спускались с длинной прямой лестницы на пол. Они были все серы, но сзади шагал человек в чёрном пальто. Политический! Откуда он взялся? Перевели из другого отделения? Не казанец ли? Николай сбежал с лестницы и догнал у выхода вереницу. Она длинной гусеницей выползла во двор, потянулась к устланной плитняком прогулочной площадке. Человек в ветхом чёрном пальто и ссевшей беличьей шапке понуро брёл впереди Николая, глядя под ноги. Ему не надо было ничего: ни свежего воздуха, ни этого мартовского солнца, ни запаха тающего снега. Он ничего не чувствовал и ни на что не смотрел, занятый думой. Шея у него была тонкая, с глубокой впадинкой между косицами. По этой шее Николай и узнал его, а потом припомнил и шапку, когда-то пышную, мягкую. Несомненно, это был Санин.
Читать дальше

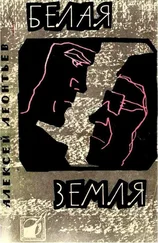




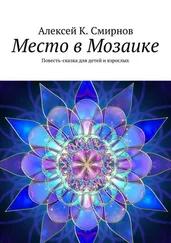

![Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]](/books/398597/aleksej-korovashko-oleg-kuvaev-povest-o-nereglame-thumb.webp)