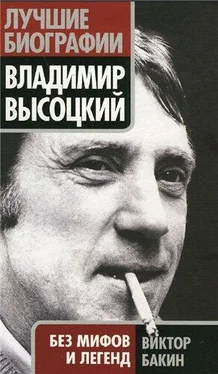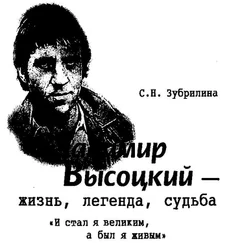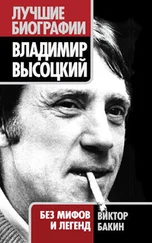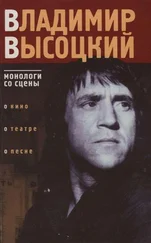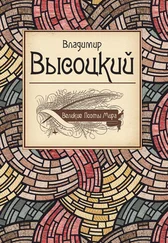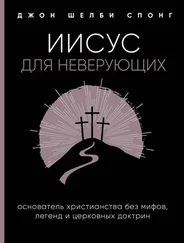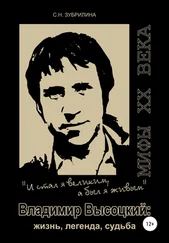Он просидел все семьдесят — он смог,
Но нам и пять — торжественная дата.
И пусть проходит каждый наш спектакль
Под гром оваций ли, под тихий вздох ли,
Но вы должны играть «Мать» вашу так,
Чтоб все отцы от зависти подохли.
«Каждый НАШ спектакль» — он верил, что вернется в театр.
И театр еще раз поверил ему. 28 апреля Высоцкий с покаянием пришел к Любимову и Дупаку. Разговор был очень суровый, требовали гарантий... Высоцкий: «А какие гарантии, кроме слова?»
5 мая состоялось собрание труппы...
Из дневника В.Золотухина: «Ю.Любимов: "В театр вернулся Высоцкий. Почему мы вернули его? Потому что мне показалось, что он что-то понял. Я знаю, в театре много шутят по этому поводу. Но должен сказать, что нам нелегко было принимать такое решение. Некоторые не склонны были доверять Высоцкому, но вы меня знаете, я все делаю, чтобы человек осознал, понял и исправился. Я всегда склонен доверять человеку, за что часто расплачиваюсь. Мне показалось, что Высоцкий понял. Что наступила та черта, которую... Пьяница — проспится, дурак никогда. Я не хочу сказать про Высоцкого, что он дурак, но он должен понимать, что театр идет ему навстречу, и ответственно подойти... Человек должен пройти огонь, воду и медные трубы... Мне кажется, медные трубы, фанфары славы Высоцкий не выдержал и потерял контроль над собой. И тут же артист обескровливается, он растрачивает душу, и это самое страшное, артист гибнет. И ему самому невдомек. Он думает, что он своим появлением уже озаряет публику, а публика не прощает холостого выстрела. Она быстро забывает артиста, когда он заштамповывается"».
О выздоровлении Высоцкого свидетельствует его желание общаться с друзьями. 10 мая он пишет письмо к И.Кохановскому: «...Были больницы, скандалы...»
Закончилась «колымская эпопея» Кохановского-журналиста и началась «эпопея чукотская» Кохановского-старателя. Письмо Высоцкий посылал по адресу: поселок Комсомольский Чаунского района Магаданской области, артель «Комсомольская».
Друг в порядке — он, словом, при деле:
завязал он с газетой тесьмой.
Друг мой золото моет в артели —
получил я сегодня письмо.
12 мая Высоцкий играл Галилея. И играл хорошо. 24 июня играл впервые Летчика в «Добром человеке...».
Из рецензии на спектакль: «В этой роли Высоцкий играл одновременно и ловкого обольстителя Янг Суна, его приукрашенный образ в сознании увлеченной им бывшей проститутки Шеен Те. Уже при первом появлении безработный летчик Высоцкого не просто отчаявшийся в жизни неудачник, а человек осознавший бесперспективность своей мечты снова взлететь. С какой ностальгической тоской смотрит он в небо на случайно пролетевший самолет! Но зритель видит и другого Янг Суна. Когда ему нужны деньги от его возлюбленной и он делает вид, что все зависит от каких-то пятисот долларов, без которых он не сможет сделать карьеру настоящего человека — летать, а не ползать в людской грязи.
В конце спектакля Высоцкий поет веселые, но с грустинкой куплеты, в которых спрашивает, когда же у всех людей будет работа и крыша над головой. Рефреном проходит строка «В день Святого Никогда», и эта простая песенка, исполненная под аккомпанемент гитары, служит моралью, которую можно извлечь из поучительной притчи Брехта. Человек с заоблачных высот сброшен на дно жизни, и его трагическая участь трогательно оплакивается в песне».
В спектакле Высоцкий проигрывал собственную жизненную ситуацию...
23 мая состоялась премьера спектакля «Мать» по роману А.Горького.
Инсценировку спектакля делали Ю.Любимов и Б.Глаголин. Взятый за основу роман Горького был расширен и заострен за счет фрагментов из других произведений писателя. Авторы постарались максимально сблизить роман с современностью, подчеркнуть болевые точки сюжета. Позднее в одной из энциклопедий будет отмечено: «Зрители увидели в этом спектакле выстраданный призыв к перемене общественного строя в СССР».
Было время, когда Театру на Таганке и его художественному руководителю предрекали неудачу при первом же обращении к большой литературе. Это глубоко ошибочное мнение — будто Театр на Таганке недооценивал роль литературы в сценическом искусстве, видит в пьесе лишь «повод для театрального представления» — теперь было опровергнуто: на его афишах появились Мольер, Есенин, Маяковский, Брехт, а теперь и Горький. После неудачи с «Живым» Любимов почувствовал вкус к русской прозе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу