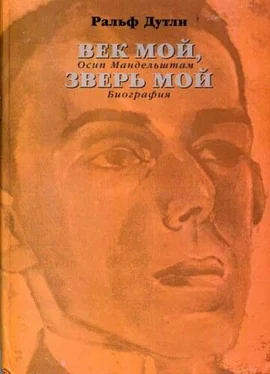Для Мандельштама-человека «Ода» имела прагматическое значение и была отчаянным жестом — выражением его надежды на продление жизни. Он посылал ее в редакции различных журналов, но ни один из них не решился напечатать это стихотворение, изобилующее сложнейшими образами. Ни «Оду», ни какое-либо другое стихотворение ссыльного изгоя и нищего. С примитивными гимнами того времени, воспевавшими Сталина, усложненно-гротескная ода Мандельштама не имела ничего общего. И в конце концов она не смогла его спасти. В разговоре с Анной Ахматовой Мандельштам назвал ее однажды «болезнью» [368] Ахматова А. Собр. соч. в шести томах. Т. 5. С. 42.
. Уезжая из Воронежа, Мандельштам просил Наташу Штемпель, получившую списки всех его неопубликованных стихов, — уничтожить «Оду» [369] См.: Штемпель Н . Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. С. 135.
.
И все-таки это гибридное творение, которое выжал из себя Мандельштам, имело один положительный эффект. Оно глубоко растревожило поэта и разожгло в нем стремление «очиститься», создав другие — «подлинные» — стихи. Всю вторую «Воронежскую тетрадь» заполняет цикл, внутренне противоположный двусмысленной «Оде», насыщенный и печалью, и протестом против этого нестоящего произведения. Это — попытка разобраться с самим собой и собственным назначением поэта.
В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины слепые,
Медной полные воды, —
И идешь за ними следом,
Сам себе не мил, неведом —
И слепой, и поводырь. (III, 109).
Скучно мне — мое прямое
Дело тараторит вкось —
По нему прошлось другое,
Надсмеялось, сбило ось! (III, 110).
Прозорливость и свобода суждения быстро вернулись к Мандельштаму. Состояние гипноза, навеянное сталинской действительностью, оказалось непродолжительным. Закончив «Оду», он пишет четыре дня спустя, 16 января 1937 года, стихотворение «Что делать нам с убитостью равнин…» — наряду с болезненными снами, здесь вновь налицо прежние энергичные формулировки:
И все растет вопрос: куда они, откуда
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим, —
Народов будущих Иуда? (III, 111).
«Предатель будущего» стоит в одном ряду с теми откровенными проклятиями Сталину, что превращают позднее творчество Мандельштама в своего рода «трибунал». Тому, кто, читая противоречивые и мнимые славословия сталинской «Оды», испытывает сомнения, следует извлечь из памяти множество полемических определений, коими Мандельштам наделяет диктатора. В «Четвертой прозе» он назвал его «рябым чертом» (III, 171). В стихотворении, написанном в апреле 1931 года, — «шестипалой неправдой» (III, 48); в стихотворении «Фаэтонщик» (июнь 1931 года) — «погонщиком дьявола» и «чумным председателем» (III, 57). В «Путешествии в Армению» (1931–1932) он выведен как «ассириец» и жестокий правитель Шапух (III, 211). Это «душегубец», «мужикоборец» и широкогрудый осетин (III, 74) в роковом антисталинском стихотворении ноября 1933 года. Наконец, в «Воронежских тетрадях» он является как «кумир» внутри горы, Иуда будущих народов и, в скрытом виде, как «паук» — в стихотворении, обращенном к поэту-бродяге Франсуа Вийону (III, 132) [370] В этом стихотворении уподобленное Франсуа Вийону авторское «я» поэта «плюет» на «паучьи права» и беззаконие в эпоху сталинского произвола. См.: Dutli R. Ossip Mandelstam — «Als riefe man mich bei meinem Namen». Dialog mit Frankreich. Ein Essay über Dichtung und Kultur. S. 272–286.
.
Позднее творчество Мандельштама тридцатых годов — это поединок со страшной эпохой и отчаянная попытка быть ее неколебимым свидетелем. И в то же время — мучительная борьба против искажения и загрязнения речи (то есть истины) пропагандой тоталитарного государства. Клятва, произнесенная Мандельштамом еще в 1931 году в стихотворении «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…», сохраняет силу до конца его жизни, при всех его кризисах и сомнениях, при любом наваждении и обманчивом чувстве благодарности или собственной вины: «Мы умрем как пехотинцы, / Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи» (III, 53).
В какие глубины отчаяния и одиночества могла ввергнуть поэта роль свидетеля и очевидца, можно видеть по стихотворению «Куда мне деться в этом январе?..», написанном вскоре после «Оды»:
И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке,
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке —
А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
— Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей — разговора б! (III, 119).
Читать дальше