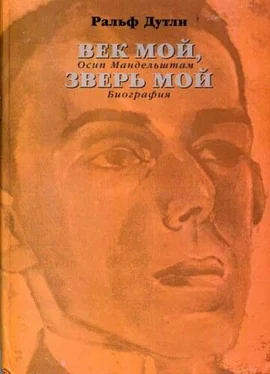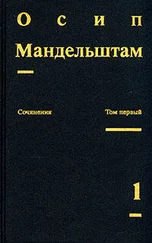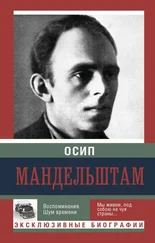Точка зрения на «Оду» как на несовершенное произведение, которое Мандельштам вынужден был написать ради сохранения собственной жизни, разделяется далеко не всеми критиками. Можно встретить и такое суждение: в этом тексте, как и вообще в «просоветских» или «лояльных» стихах воронежского периода, следует видеть совершенно искренние попытки поэта приблизиться к духу или злым силам своей эпохи (в том смысле, как это выражено в «Стансах»: «Я должен жить, дыша и большевея…») [364] Например, Г. Фрейдин считает «Оду» вершиной всего творчества Мандельштама (см.: Freidin G . A Coat of Many Colors. Osip Mandelstam and his Mythologies of Self-Presentation. Berkeley/Los Angeles/London, 1987. P. 260); для М. Гаспарова «Ода» важная составная часть «гражданской» лирики 1937 г. (см.: Гаспаров М. Л . О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. М., 1996. С. 78–112).
. Более убедителен тезис, согласно которому Мандельштам — ввиду эрозии европейского гуманизма в тридцатые годы и распространения фашизма и национал-социализма — вполне сознательно стремился приблизиться к «относительной правде» сталинского социализма и лишь позднее, окончательно избавившись от этой иллюзии, встретил смерть свободными стихами [365] Марголина С. М . Мировоззрение Осина Мандельштама. Marburg/Lahn, 1989. С. 168–171.
.
Очевидно, что в «Воронежских тетрадях» запечатлены и все кризисные моменты. «Сознание своей правоты», которым Мандельштам в статье «О собеседнике» (1913) наделяет поэта, во время ссылки оказывалось иногда поколебленным. Таким же колебаниям подвергались и сложившиеся еще до революции его представления о личности, не зависимой от истории, и шкале «незыблемых ценностей» (I, 101). И не раз приходилось ему испытывать смешанное чувство вины и благодарности за оказанную ему «милость» — ведь не приговорили же его к расстрелу за антисталинское стихотворение!
И к нему — в его сердцевину —
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головой повинной тяжел… (III, 118).
Временами Мандельштам пытался довериться своей эпохе, но эти настроения длились недолго. Воспоминания его друга Бориса Кузина проливают свет на эти кризисные состояния:
«Особенно, по-видимому, для него был силен соблазн уверовать в нашу официальную идеологию, принять все ужасы, каким она служила ширмой, и встать в ряды активных борцов за великие идеи и за прекрасное социалистическое будущее. Впрочем, фанатической убежденности в своей правоте при этих заскоках у него не было. Всякий, кто близко и дружески с ним соприкасался, знает, до чего он был бескомпромиссен во всем, что относилось к искусству или к морали. […] Но когда он начинал свое очередное правоверное чириканье, а я на это бурно негодовал, то он не входил в полемический пыл, не отстаивал с жаром свои позиции, а только упрашивал согласиться с ним. — “Ну, Борис Сергеевич, ну ведь правда же это хорошо”. А через день-два: “Неужели я это говорил? Чушь! Бред собачий!”» [366] Кузин Б. Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н. 192 письма к Б. С. Кузину. С. 166.
Эти «большевистские припадки» воронежского периода Надежда Мандельштам рассматривала как следствие реактивного психоза, вызванного его пребыванием на Лубянке, как своего рода гипноз:
«Единственное, что мне казалось остатком болезни, это возникновение у О. М. время от времени желания примириться с действительностью и найти ей оправдание. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно в такие минуты он находился под гипнозом. Тогда он говорил, что хочет быть со всеми и боится остаться вне революции, пропустить по близорукости то грандиозное, что совершается на наших глазах…» [367] Мандельштам Н. Воспоминания. С. 149.
Трагическая раздвоенность Мандельштама периода ссылки проявилась, с одной стороны, в его желании примириться с эпохой, с другой, — в горестном понимании того, что он никогда не примет ни всей ее лжи, ни ее верховного распорядителя. Раздвоенное сознание поэта было уже в 1923 году темой его «Грифельной оды»:
Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик, —
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик (II, 47).
В сталинское время было невероятно трудно в одиночку противостоять всеобщей чистке мозгов, мучаясь вопросом: А что если я не прав, а правы все остальные? Но пусть даже Мандельштам был ослеплен и одурманен окружавшим его культом Сталина и пытался проникнуть в сущность лже-благодетеля человечества, его поэзия, оставаясь голосом правды, все равно свидетельствовала о другом. Подчас Мандельштам-человек хотел раствориться в своей эпохе и выжить; но Мандельштам-поэт еще в 1934 году (в разговоре с Анной Ахматовой) нашел решающие слова — «Я к смерти готов» — и доверился будущему своих стихов.
Читать дальше