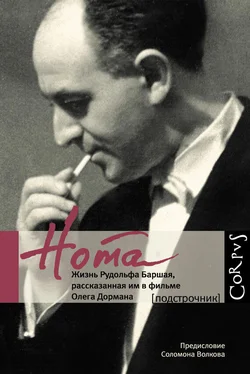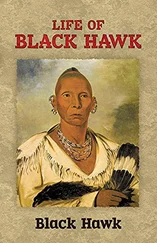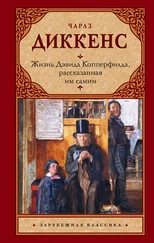С нами всегда ехал кагэбэшник. Это называлось «сопровождающий». Приходил на одну из последних репетиций перед поездкой, говорил, что он представитель Моссовета и поедет с нами. Ну, все понимали, какой он представитель Моссовета. Если еще не большая сволочь — то ничего, терпимо. Среди них бывали люди вполне приличные.
Паспорт с визой выдавали в последний день накануне поездки, а иногда только в аэропорту: до последней минуты ждали, не поступит ли на человека какой-нибудь «сигнал».
Первый раз Камерный оркестр выпустили в Венгрию. Это был пятьдесят восьмой. Прошло всего два года с тех пор, как русские танки проутюжили улицы Будапешта, венгерская революция была разгромлена, а Имре Надь, возглавлявший ее, повешен. Я был знаком с ним по той поездке, когда Рихтер разучивал «Альбораду». Нас тогда позвали на правительственный прием. Все чинно, официально… Рихтер неожиданно сел к роялю и исполнил Восьмую сонату Прокофьева. Все были ошеломлены, даже растеряны, трудно было вернуться к пустым разговорам и токаю. Надь подошел к нам, мы познакомились, нам обоим он показался симпатичным человеком. И вот его повесили. Причем он просил, чтобы расстреляли как военного. Но его повесили. Хитростью, обманом выманили из посольства Югославии и повесили. Это, как и сами венгерские события, произвело на меня большое впечатление. Если еще оставались какие-то надежды на эволюцию советского строя — они были подорваны бесповоротно.
В Венгрии нас встретили сдержанно. Вежливо, приветливо, но не то, что прежде. Мне было с чем сравнить: когда я приезжал Будапешт в составе студенческого оркестра на фестиваль молодежи, нас встречали толпы и с таким ликованием, которое нельзя организовать. Это были еще послевоенные чувства, сорок девятый год. Мы ехали в автобусе, а по улицам венгерки несли блюда, подносы с горячими пирогами и протягивали нам в открытые окна.
Поселили в общежитие медицинского института, повели в столовую. Первым делом принесли корзинки с большими ломтями белого хлеба, поставили на стол. Ждем продолжения. Тут один из наших, будущий известный эстрадный дирижер, громко кричит: «Ребята, рубай горчицу — вкусная!» Мы взяли этот теплый хлеб, стали на него мазать горчицу, через две минуты корзинки были пусты. Венгры посмотрели на нас как на диких зверей. Принесли еще корзинки с хлебом. Через минуту опустошили и их. Но это, так сказать, частный эпизод. Общее настроение по отношению к нам царило тогда самое доброе. Теперь люди часто прятали глаза.
Концерт прошел с большим успехом. Я чувствовал, как такт за тактом аудитория проникалась доверием, волнением, и, в общем, в конце нам аплодировали долго, с жаром и с какой-то подчеркнутой серьезностью, не знаю, как лучше это определить. На обратном пути, когда провожали на поезд, министр культуры доверительно рассказывал мне, как недавно они праздновали юбилей национального венгерского композитора Золтана Кодая, восемьдесят лет. Кодая очень почитали, во время революции даже хотели выдвинуть президентом. К юбилею его наградили каким-то большим венгерским орденом, и на специальном торжественном заседании правительства Кодай должен был его получить и произнести благодарственную речь. Насколько она будет благодарственной — всех очень беспокоило. В правительстве, министр говорит, все дрожали. Понимали, что слово Кодая ловят миллионы венгров. И вот собрание, старик пришел, ему вручили орден, он поднялся на трибуну и говорит: «Не думайте, что я успокоюсь. — Все замерли. — Я не успокоюсь до тех пор, пока в школах моей страны, моей Венгрии… — ужас, ужас, что он скажет?! — …не будет введен еще один дополнительный час музыкального воспитания!» У них отлегло от сердца. Дополнительный час музыкального воспитания в школах! Они действительно пересчитали сметы, сократили какие-то другие дисциплины и ввели этот час. Причем моментально, чуть ли не за месяц. Думали, что легко отделались. И, может быть, напрасно: час музыки в школе может перевесить любую идеологию.
После гастролей в ГДР и Болгарии нам разрешили поехать в Австрию — то ли «осиное гнездо», то ли «логово фашизма», сейчас не помню точно. Впечатления от логова были сильные. Не только от уровня жизни — жизни музыкантов, в частности, — но и от ощущения непрерываемой традиции во всем, что мы видели. Притом что был ужас Третьего рейха, потом поражение Германии в войне… Тогда мы об этом особенно не думали — просто многому поражались и многое восхищало. Это проходило фоном, потому что главные события и впечатления были музыкальные. Мы ведь ехали не туристами и не, в самом деле, магнитофоны покупать. Главным было, как мы сыграем в легендарном «Моцартеуме» в Зальцбурге. И теперь у меня в памяти из всех впечатлений — наши разговоры с Рихтером. Мы играли вместе Es-dur’ ный концерт Моцарта. Там есть медленная до-минорная часть, очень грустная. Репетируем. За окнами — тот самый город, по которому ходил Моцарт и смотрел на эти же дома, деревья и, во всяком случае, на это же небо. Мы с Рихтером уже исполняли этот концерт в Москве бог знает сколько раз. Но теперь на репетиции он вдруг прервался, посидел молча и говорит: «Нет, не так. Здесь не просто грусть или меланхолия: в этой мелодии — страдания артиста. Это муки творческой души». И мы сыграли совсем иначе, совсем-совсем иначе. Невозможно передать словами. Но это было главное в поездке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу