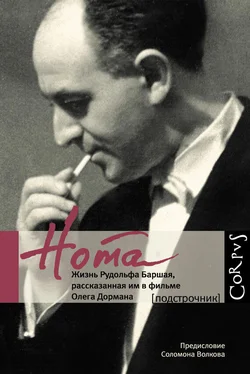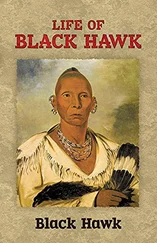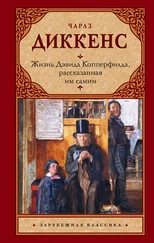В пятьдесят четвертом году мы с квартетом Чайковского поехали в Будапешт. Рихтер играл программу с нами и давал сольные концерты. В одном он сыграл сонату Бетховена «Аппассионата». Всякое мы слышали, но это исполнение нас потрясло. Возвращаемся в гостиницу, полные впечатлений, ужинаем, сидим за столом. Вдруг Рихтер наклоняется ко мне: «Рудик, знаете, я последний сапожник». — «Что такое?» — «Я в „Аппассионате“ рано начал разработку. Поторопился, понимаете, стал преждевременно создавать напряжение, поэтому в результате достаточной силы оно не имело, и кульминация не состоялась, как надо». — «Слава, я никогда в жизни не слышал лучшей „Аппассионаты“». Он покачал головой: «Нет. Я последний сапожник».
Поужинали. Рихтер говорит: «Надо пойти поспать, завтра трудный день, мы должны начать с репетиции квинтета, нам вечером квинтет играть — это сложно».
Я заснул. А минут через десять — пятнадцать слышу: играет. Мой номер находился как раз напротив его номера, в который специально для Рихтера поставили рояль. Ну, я, конечно, спать не мог: мне было страшно интересно, что он учит и как он это учит. А он начал учить совсем не «Аппассионату», а пассаж из одной замечательной пьесы Равеля, она называется «Альборада дель грациозо». Очень какой-то трудный пассаж, который ему никак не удавался. Он повторял этот пассаж бесчисленное количество раз, учил его минимум до пяти часов — в пять я не выдержал и заснул.
По приезде в Москву Рихтер должен был играть сольный концерт. И он из программы эту «Альбораду» Равеля снял. Пообещал, что сыграет на следующем концерте. Но как же он эту пьесу сыграл через месяц, как! Это было абсолютное какое-то совершенство музыкальной мысли, ткани и звука. В этом было что-то совершенно необыкновенное, даже неприличное, — странно было, как это смертный человек производит такие звуки и так играет.
Это — страстное желание добиться совершенства. Это напоминает работоспособность таких великих людей, как Бетховен, Гёте. Ведь Гёте понадобилось сорок лет для того, чтобы написать «Фауста». А Бетховену, как мы знаем, понадобилось десять лет, чтобы сочинить только одну тему второй части. На восемь тактов — десять лет. Это признак гения. Как говорил Гёте, очень трудно, конечно, без конца повторять одно и то же и добиваться совершенства, не каждый может выдержать, но только на этом пути возможно появление великих произведений.
Работа с Гилельсом, Ойстрахом, Рихтером позволила Камерному оркестру подняться на такую творческую высоту, на которую только огромная личность может поднять единомышленников.
Советские музыканты очень любили ездить за границу. Да вообще любой человек в Советском Союзе очень это любил, потому что рассчитывал приодеться, привезти какой-нибудь магнитофон или, позже, проигрыватель для дисков, да просто оказаться там, где вообще-то никак не мог бы оказаться. Большинство об этом не смело и мечтать. Но для музыкантов такой соблазн существовал.
Поводок отпускали постепенно, на строго определенную длину. Сначала едете в страны соцлагеря. Потом, за хорошее поведение, — Ближний Восток, Индия, капиталистическая Европа. И наконец, особо отличившимся — Америка и Япония. Рихтера, например, до шестидесятого года выпускали только в страны победившего социализма. Он был немцем по отцу, которого арестовали и расстреляли в Одессе перед приходом фашистов за то, что он якобы шпионил в их пользу. Отец был органистом в протестантской церкви. А мать, наоборот, уехала с немцами, когда те уже отступали, и жила потом в Германии. Двадцать лет они со Славой ничего друг о друге не знали. Белоцерковский пришел в Министерство культуры и сказал: «Рихтер в мире известен только по записям, весь дипломатический корпус, аккредитованный в Москве, не понимает, почему такого великого пианиста не могут услышать за рубежом, — разрешите, я поеду с ним. Беру на себя всю ответственность». И — разрешили. Приехали они за границу, а через день Белоцерковский приносит Нине Львовне, жене Рихтера, обратный билет: «Звонили из Москвы, вам необходимо срочно вернуться». — «Почему, что случилось?» Представляете, что они пережили. Месяц спустя выяснилось через знакомых в министерстве: никто не звонил. Это была полностью инициатива Белоцерковского. Его свои спросили: «Зачем же ты отослал жену Рихтера в Москву?» Он ответил: «Она мешала мне вести наблюдение за Рихтером».
Сегодняшним молодым людям в России трудно будет себе представить, как происходил выезд за границу в те годы. Сначала на каждого музыканта готовилась характеристика парторганизации. В нашем случае — от парткома филармонии. Затем ее должен был заверить районный комитет партии. А потом, не скоро, каждого вызывали на собеседование в выездную комиссию. Между собой ее называли «комиссия народных мстителей». Там сидели так называемые старые большевики, которые ненавидели счастливцев, едущих за границу, — музыкантов, цирковых, девочек из «Березки». Задавали каверзные вопросы: «Кто председатель Монгольской компартии?», «Сколько орденов у комсомола?», «Кто руководит Бангладеш?» — и ты обязан был ответить. А не ответишь — не поедешь. Потом нам объясняли, чего надо остерегаться за рубежом. Читали специальную лекцию. В отношении стран «народной демократии» получалось несколько неловко, ведь они вроде наши братья. Зато если предполагалась поездка в капстрану, инструкторы могли развернуться. Больше всего, они говорили, следует опасаться вербовки. Однажды я спросил, какой интерес представляет альтист для иностранных разведок — что он может им передать, кроме дислокации Московской филармонии. Инструктор ответил, что любого могут похитить и потребовать выкупа. За известного артиста, говорит, это могут быть очень серьезные суммы. Придется тратить народные деньги. Ни под каким предлогом нельзя принимать от иностранцев подарков. Это может быть подкуп с последующей попыткой шантажа или просто подслушивающее устройство. Или даже взрывное. Шоколад может быть отравлен. Не дай бог оказаться с иностранкой в купе — во всяком случае, ночевать: завербует. Нельзя выходить в город по одному — только впятером. «Пятерками» ходить, в которых один главный и отвечает за всех. Возвращаться в строго определенное время. Мне казалось, что, по крайней мере, некоторые из этих инструкторов понимали, какую чушь они несут. Но так полагалось. В действиях организаций, которые занимались моральным воспитанием советских людей, многое было непонятно. И тем не менее мы жили в то время, и надо было с этим считаться. Как говорил Сократ, «других людей не дано», люди вот такие, надо с этим мириться. Вот мы мирились. Мирились. После инструктажа подписывали бумаги о том, что предупреждены, что осознаём и в случае чего — понесем наказание. Я как руководитель отвечал за всех.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу