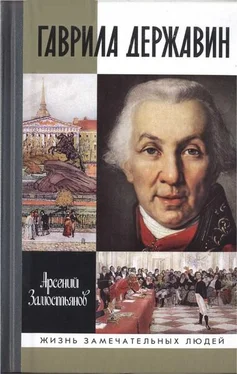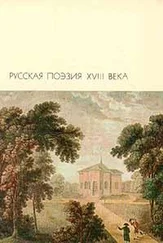Прибыл в Петербург выпускник Казанской гимназии Владимир Иванович Панаев — не только земляк, но и родственник Державина. Правда, седьмая вода на киселе: мать Панаева, Надежда Васильевна, урождённая Страхова, приходилась Гавриле Романовичу двоюродной племянницей. Но для бездетного старика такое родство оказалось поводом для опеки и дружбы. Тем более Панаев оказался деятельной личностью, к тому же сочинял стихи и поражал начитанностью. Державин советовал ему не бросать поэзию, следовать за римскими образцами. А Милена поглядывала на племянничка сурово. Но если бы не Панаев, кто рассказал бы о последних петербургских днях Державина с такой писательской зоркостью:
«Наступила страстная неделя. Гавриил Романович предложил мне говеть с ним, для чего я должен был каждый день приезжать обедать и оставаться до вечера, чтобы слушать всенощную. Но я воспользовался этим предложением один только раз, в понедельник; холодность хозяйки поставляла меня в неприятное, затруднительное положение: я отговорился большим расстоянием моей квартиры от их дома и тогдашней распутицей.
В Светлое воскресенье я, однако ж, приехал обедать и потом не был целую неделю. Прихожу во вторник на Фоминой. Гавриил Романович был один в своём кабинете; некоторые из шкафов стояли отворёнными; на стульях, на диване, на столе лежали кипы бумаг. Спрашиваю о причине: „Во вторник на следующей неделе уезжаю на Званку; не знаю, приведёт ли Бог возвратиться, так хочу привести в порядок мои бумаги. Ты очень кстати пожаловал, пособи мне“. С искреннею радостью принялся я за работу. Беру с дивана большую пачку, вижу надпись: „Мои проекты“. „Проекты! Вы так много написали проектов и по каким разнообразным предметам“, — сказал я с некоторым удивлением, заглянув в оглавление. „А ты разве думал, что я писал одни стихи? Нет, я довольно потрудился и по этой части, да чуть ли не напрасно: многие из полезных представлений моих остались без исполнения. Но вот что более всего меня утешает (он указал на другую пачку): я окончил миром с лишком двадцать важных запутанных тяжб; моё посредство прекратило не одну многолетнюю вражду между родственниками“. Я взглянул на лежащий сверху реестр примирённых: это по большей части были лица знатнейших в государстве фамилий. Подхожу к столу, на котором лежали две кучки бумаг, одна побольше, другая поменьше. „Трагедии?! Оперы?! — спрашиваю я, тоже с некоторым, по неожиданности, удивлением. — Я и не знал, что вы так много упражнялись в драматической поэзии; я думал, что вы написали одну только трагедию ‘Ирод и Мариамна’“. — „Целых пять, да три оперы“, — отвечал он. „Играли ли их на театре?“ — „Куда тебе; теперь играют только сочинения князя Шаховского, потому что он всем там распоряжает. Не хочешь ли прочитать которую-нибудь?“ — „Очень хорошо“. — „Так возьми хоть ‘Василия Тёмного’, что лежит сверху; тут выведен предок мой Багрим. Да, кстати, возьми уж и одну из опер; но с тем, чтобы по прочтении пришёл к нам обедать в субботу и сказал бы мне откровенно своё мнение“».
Панаеву «Василий Тёмный» не пришёлся по душе. Тяжеловесная трагедия не достойна державинского пера — таков был его вердикт. Вот «Фелица» — и писана вроде бы на давно устаревшую злобу дня, и надежды на Екатерину давно перегорели, и анекдоты, которыми ловко жонглировал Державин, теперь нуждаются в объяснениях — а всё равно это истинная поэзия: «Богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды…» Но брякнуть Державину неприглядную правду про «Василия Тёмного»? Жестокая глупость, не более. Суббота приближалась! Панаев предпочёл увильнуть от разговора — хотя решение это было мучительным.
«Мог ли я нагло солгать пред человеком, столь глубоко мною чтимым: похвалить его произведение, когда убеждён был в противном. С другой стороны, как достало бы у меня духа сказать ему правду?! Я не знал, что мне делать, как выйти из трудного моего положения? Думал, думал и решился не ехать обедать. В этой решимости подкрепляла меня мысль, что может быть, по старости лет, по сборам в дорогу, Гавриил Романович как-нибудь забудет, что дал мне эти пьесы, что звал меня обедать. Вышло, однако ж, напротив. В субботу, в седьмом часу вечера, докладывают мне, что пришёл швейцар Державина, известный Кондратий. Я тотчас надел халат, подвязал щёку платком, лёг на кровать и велел позвать посланного. „Гаврила Романович, — сказал Кондратий, — приказали вам сказать, что они сегодня дожидались вас кушать и очень сожалели, что вы не пожаловали; да приказали взять у вас какие-то ихние книги“. — „Ты видишь, — отвечал я, — что я нездоров, у меня сильно разболелись зубы; я таки перемогался, но кончилось тем, что не в силах был приехать, а дать знать о том было уже поздно; бумаги же хотел отослать завтра утром. Теперь возьми их с собою; да, пожалуйста, извини меня пред Гавриилом Романовичем“. Мне и теперь кажется, что я поступил хорошо, уклонившись, хотя, правда, и неделикатно и с примесью лжи от обязанности высказать Гавриилу Романовичу откровенное мнение моё о его трагедии и опере».
Читать дальше