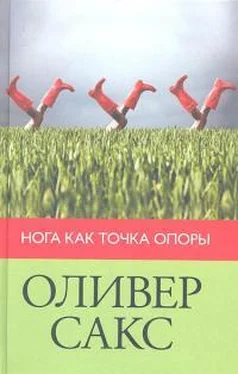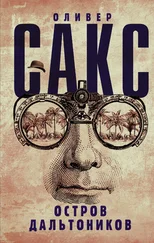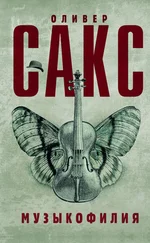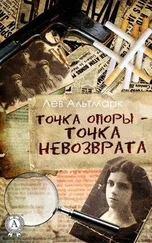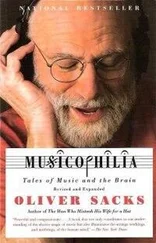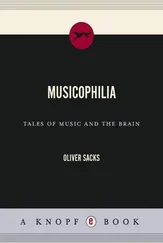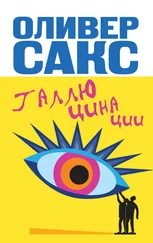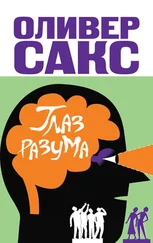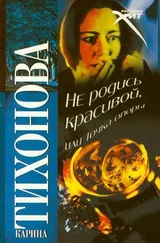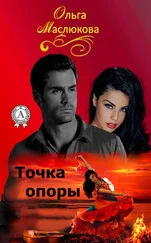Такое различие не всегда было ясным — так, пациенты с анозогнозией или странными угасаниями и неправильным приписыванием частей тела до Бабинского часто считались шизофрениками или истериками.
Это, хотя и не делалось эксплицитным, было, несомненно, одной из причин того, почему Бабинский после описания кортикальных синдромов полушарного невнимания и анозогнозий обратился к изучению периферических синдромов — великого феноменологического богатства своей syndrome physiopathique. Поэтому и Леонтьев и Запорожец, основатели (вместе с Лурией) нейропсихологии, были во время Второй мировой войны так заворожены рассказами пациентов об отчуждении конечностей; они приписывали эти внутренние ампутации и отчуждения диссоциации гностических систем, нейропсихологическому распаду на высочайшем уровне. Однако Леонтьев и Запорожец все еще оставались приверженцами объективной неврологии, взгляда на мозг как на систему систем; они не предлагали каких-либо объяснений в терминах структуры сознания полной субъективности описаний пациентов. Пациент с подобным отчуждением может пространно говорить о центральном парадоксе отчуждения — ощущении того, что отчужденная конечность его личности не принадлежит. Он может обнаруживать нарушения памяти, парадоксальную амнезию, противоречащую тому, что он знает. Он может отмечать нарушения личного пространства (которое страдающий агнозией показывает, но не ощущает). Он может констатировать состояние чрезвычайной растерянности, полное разрушение внутреннего ощущения идентичности, памяти, пространства, принадлежащего сфере конечности, в то время как в остальном сознание остается нетронутым и полным. Именно это и испытывал я сам 51 51 «Самым ужасный было то... что нога не «была перемещена», а на самом деле лишилась своего места. Нога исчезла, забрав с собой свое «место», И поскольку больше не было никакого места, куда можно было бы вернуться... не было и возможности вернуть ногу. Могла ли помочь память там, где воля бессильна? Нет! Нога исчезла, забрав с собой свое «прошлое»! Я больше не мог вспомнить обладание ногой. Я не мог вспомнить, как я когда-либо ходил или поднимался в гору. Я чувствовал себя необъяснимо отрезанным от того человека, который ходил, бегал, поднимался в гору всего пять дней назад, Между нами существовала лишь «формальная» непрерывность. Существовал провал — абсолютный провал — между «тогда» и «теперь», и в этом провале, в этой пропасти исчез бывший «я»... В этом провале, в этой пропасти, вне времени и пространства исчезли реальность и возможности ноги... растворились в воздухе, исчезли из времени и пространства, исчезли, забрав с собой свое пространство и время». — Примеч. авт.
.
Такие феноменологические изменения требуют формулировки в терминах не систем, а личности; требуют «неврологии идентичности», требуют создания теории идентичности, памяти, пространства, которая могла бы соединить их друг с другом, показать их неразрывность, показать их как аспекты единого глобального процесса. Они нуждаются, короче говоря, в биологической теории сознания — но таковая была недоступна мне, да и никому вообще, в 1970-е годы.
Так все и оставалось многие годы, пока я не познакомился с работой Джеральда Эдельмана и его выделением первичного и более высокого уровня сознания и их возможного нейронного базиса. Здесь явно не идет речь о простой регистрации внутренних изменений, какие дали бы сенсорное картирование (и категоризация); имеет место также сравнение — сравнение настоящего с прошлым, с тем, что запомнено. Сознание — единый процесс; оно в первую очередь вырастает (как считает Эдельман) из перцептивной категоризации, памяти, научения и различения «я» и «не-я». Из этого первичного сознания, как называет его Эдельман, у человека развивается сознание высшего порядка, с возможностью овладения языком, формирования понятий, мышления. Так понимаемое сознание полностью личностное; оно неразрывно связано с действительно живущим телом, его местоположением и позицией в личном пространстве; оно основывается на памяти, на вспоминании, которое постоянно реконструирует и ре-категоризирует себя. Идентичность, память и пространство, согласно Эдельману, идут вместе; вместе они создают и определяют «первичное сознание». Однако именно эти три аспекта исчезли, когда нога стала мне чужой. Они вместе разрушились и исчезли, оставив, так сказать, дыру — дыру в памяти/идентичности/пространстве.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу