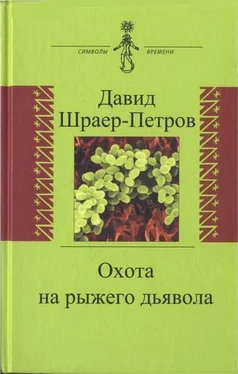«Что же происходит? — думал я, механически помешивая ложечкой чай, равнодушно откусывая от любимого эклера, едва прикасаясь к варенью, щедро положенному в тоненькое фарфоровое японское блюдечко. — Почему образуются эти капсулы-скафандры? Чтобы защитить бактерию от уничтожения белыми клетками крови — фагоцитами? Происходит селекция капсулообразующих мутантов? Или это нечто другое? Но что? Каков механизм капсулообразования?»
В те далекие годы в советской биологической науке, и в частности в микробиологии, молекулярная генетика была абсолютно подавлена. Некоторые перемены начались после доклада Н. С. Хрущева «О культе личности Сталина и его вредных последствиях» в феврале 1956 года. Перемены в политике, но не в биологии. В этой науке еще царствовал авторитет Т. Д. Лысенко, который вовсе не признавал существования наследственной субстанции, считая генетику проявлением капиталистической идеологии — менделизмом-вейсманизмом — морганизмом, враждебным социализму. В 1953–1954 годы я был студентом первого курса. Мы изучали биологию, конечно же, с позиций Т. Д. Лысенко, где для развития организма внешняя среда — все, а гены — ничего. Ничего, потому что генов в природе нет. Это очень напоминало средневековье, когда инквизиция не допускала и мысли о существовании иных миров, а Землю считала центром мироздания. На кафедре биологии преподавал некто, кого студенты презрительно называли «Сережка-морганист». Высокий, красивый, вечно сутулящийся из-за неведомой нам провинности человек. Потом я узнал, что «Сережка-морганист» в 1948 году покаялся «в своих генетических заблуждениях, в своих связях с буржуазным менделизмом — вейсманизмом — морганизмом», был прощен и оставлен на кафедре с понижением в должности: был доцент, стал преподаватель.
К лету 1957 году, когда мы сидели на веранде дачи Рохлиных в Комарово и беседовали о капсульных бактериях, дела в биологии несколько изменились. В апреле 1957 года нашем институте при переполненной аудитории № 7, той самой, в которой В. И. Ленин в 1917 году зачитал свои знаменитые «Апрельские тезисы», с блеском выступил выдающийся генетик Н. В. Тимофеев-Рессовский (1900–1981), автор монографии «Краткий очерк теории эволюции» и многих книг по генетике. Н. В. Тимофеев-Рессовский хорошо знал работы Э.Я. по лучевым мутациям. Незадолго до этого он вернулся из ГУЛАГа. С горькой иронией вспоминает о тюремных годах А. И. Солженицын в эпопее «Архипелаг ГУЛАГ»: «Профессор Тимофеев-Рессовский, президент научно-технического общества 75-й камеры. Наше общество собирается ежедневно после утренней пайки около левого окна…»
«Каков механизм капсулообразования?» — спрашивал я себя.
Во время следующего моего визита к Рохлиным, словно продолжая вчерашний разговор, Д.Г. сказал: «Я припоминаю одну статью довоенных времен в немецком журнале, где описана странная разновидность кишечной палочки, обладающей ярко выраженной слизистой капсулой. Бактерия была выделена из испражнений больных раком желудочно-кишечного тракта. Автор статьи даже назвал необычную палочку Cancer coli». «Может быть, это мутация и последующая селекция капсульных мутантов в условиях измененного раковым процессом метаболизма?» — предположила Э.Я. «А что, если происходит трансформация генов слизеобразования от раковых клеток к бактериям?» — внезапно осенила меня дерзкая идея. Я знал из курса патологической анатомии, что многие типы раковых клеток выделяют слизь, по составу напоминающую слизистые капсулы бактерий.
Генетическая трансформация признака капсулообразования у пневмококков (S. pneumoniae), бактерий, вызывающих воспаление легких, была открыта английским микробиологом Ф. Гриффитом в 1928 году путем остроумно сконструированного эксперимента. В опытах Гриффита белые мыши, зараженные капсульным типом пневмококка, вскоре погибали, и капсульные пневмококки обнаруживались в крови животных, то есть в стерильной среде организма. В то же время пневмококки, не способные образовывать капсулу, оказывались безвредными и не вызывали сепсис. Но если Гриффит заражал белых мышей убитыми капсульными пневмококками, смешанными с живыми некапсулообразующими пневмококками, животные погибали при такой же картине сепсиса, как и при заражении капсульными бактериями. Это значило, что какое-то вещество, контролирующее признак капсулообразования, переходило от убитых капсульных бактерий (доноров) — к живым некапсульным (реципиентам). Еще через десять лет после публикации статьи Гриффита было доказано, что причиной трансформации некапсулообразующих пневмококков в капсульные служит ДНК, то есть вещество, переносящее генетическую информацию от одних бактериальных клеток к другим.
Читать дальше