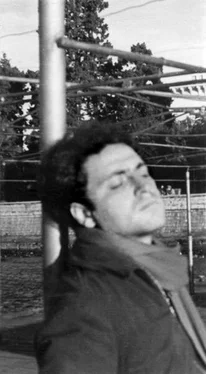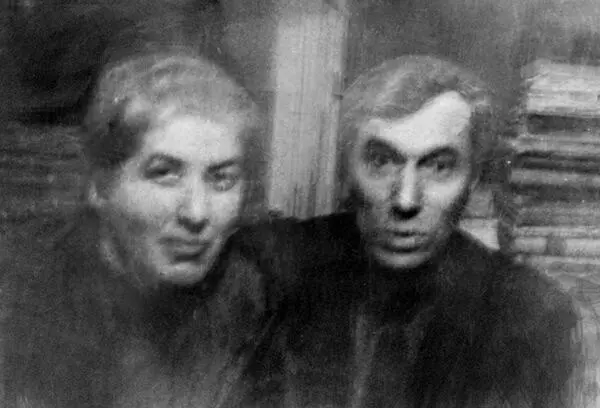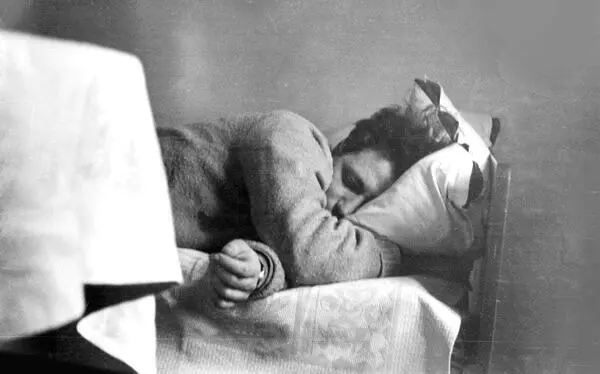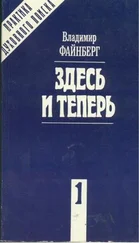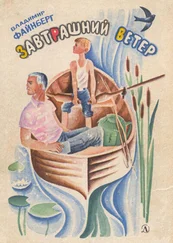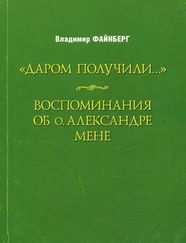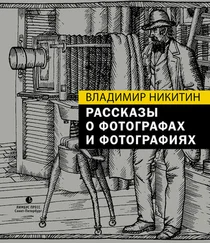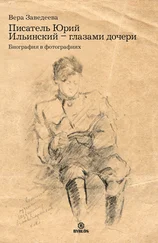Несколько зим я снимал то комнатёнку близ сухумского лодочного причала на реке Беслетке, то самый дешевый номер в гостинице «Абхазия».
С утра выходил к причалу. Вставлял вёсла в уключины шлюпки и выгребал из реки в море. Курил трубку, как заправский моряк.
Ставрида, скумбрия, сельдь – вот что обычно ловилось на мой самодур.
Бывало, попадал в шторм со смерчем.
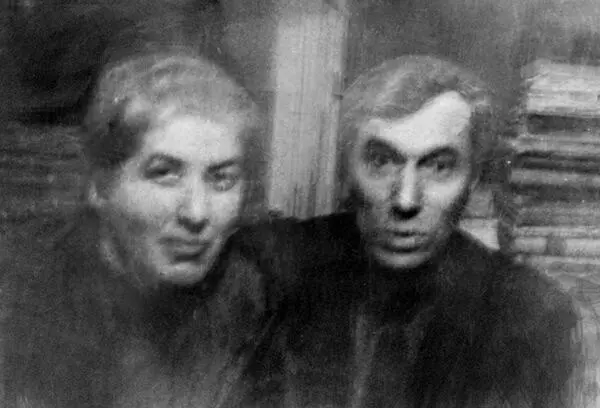
Глядя со стороны, приятели завидовали моему образу жизни. Многие из них были уже женаты, обзавелись детьми. А я всё так же возвращался из своих странствий в коммуналку к родителям. Они работали, старели, порадовать их было нечем.
Я продолжал не брезговать никакой внештатной работой. Как–то осенью в редакции радио, вещающего на заграницу, попросили взять интервью у Б. Л. Пастернака. Которого тогда травили за опубликованный за границей роман «Доктор Живаго».
Я рассказал об этом Лидии Корнеевне Чуковской.
— Он в Переделкино. Поезжайте! – сказала она. – Давно хотела вас познакомить, рассказывала о вас. Возьмите с собой стихи, покажите ему.
Стихи я не взял. Но поехал.
Как принял меня Борис Леонидович, какой счастливый вечер провёл я у него, об этом рассказано в одной из моих книг.
«Владимиру Файнбергу на счастье», – написал он летящим почерком на подаренном мне отдельном издании своего перевода «Гамлета».
Днём позже Лидия Корнеевна подарила любительское фото, где она снята с Пастернаком. Плохонькое фото. Но для меня дорогое.
В 1961 году произошли два события, которые, как я надеялся, станут переломными и я обрету хоть какой–то официальный статус. От милиции, пытавшейся обвинить меня в тунеядстве, спасала только моя инвалидность.
Теперь я мог узаконить свои отношения с государством, попытавшись стать членом Союза писателей. Дело в том, что под редакцией Михаила Светлова наконец вышла в свет книга стихов «Над уровнем моря». В «Литературной газете» появилась осторожная, но вполне благожелательная рецензия известного критика.
В этом же году меня неожиданно легко приняли на Высшие курсы сценаристов.
Казалось, наступил конец странствиям.
Нужно было в течение двух лет посещать лекции, смотреть и обсуждать по два–три шедевра мирового кино.

Зная о том, как я привык к морю, как худо мне в Москве без него, компания друзей летом на юге сколотила плот, назвала моим именем и отправилась в плаванье.
Не ведаю, насколько далеко удалось проплыть, но присланные фотографии навсегда остались трогательным памятником нашей дружбе.


Пассажирский пароход «Кулу», перевозивший в сталинские времена заключенных с материка на Камчатку, вёз теперь несколько сотен студенток дальневосточных вузов, отправленных во время летних каникул работать на южнокурильский остров Шикотан. Там в пик путины они должны были трудиться в три смены на консервном заводе – закатывать в баночки сайру.
Лёгкий на подъём, я не пренебрёг случайной возможностью получить длительную командировку. Перелетел из Москвы во Владивосток, взошел по трапу на «Кулу». Я был единственным пассажиром–мужчиной в обществе оробевших девушек.
Через несколько суток плаванья по Тихому океану и Охотскому морю мы высадились на краю света – на Шикотане.
Я прожил там несколько месяцев. О событиях на острове, о том, что пришлось пережить вместе с девушками, – об этом рассказано в опубликованной спустя пять лет моей повести «Свет на вулкане».
Обратно во Владивосток возвращался на том же «Кулу». Команда встретила меня как родного.
…Стою счастливый с двумя штурманами и матросом.
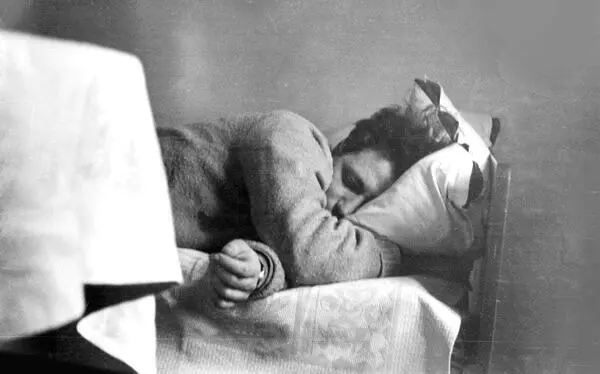
Режиссёр Б. Рыцарев сделал снимок, когда я мёртвым сном спал в нашем номере ялтинской гостиницы.
Он создавал художественный фильм «Валера» по моему дипломному сценарию. В основу этой истории легли впечатления от моих странствий по России.
Читать дальше