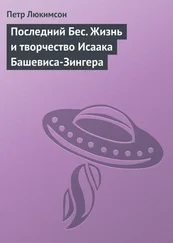Впереди была Большая война, Великая Отечественная. Та, к которой готовилась вся поэтическая компания.
Воскресный день 22 июня 1941 года выдался в Москве солнечным.
Ничто не предвещало начала войны. Москвичи узнали о ней в полдень, из выступления Молотова по радио. Даже многие части Московского гарнизона, особенно Военные академии и училища, оставались в неведении до 12 часов дня. Студенты готовились к экзаменам. Многие москвичи с утра выезжали отдыхать за город.
Вот как описывает этот день Давид Самойлов — приводим его рассказ полностью из нескольких соображений. Во-первых, рассказ косвенно свидетельствует о растерянности власти; «послы» и их дети знали; всем прочим, до поры, пока не приняты властные решения, знать не полагалось, боялись паники. Во-вторых, благодаря этому эпизоду становится понятно, насколько прав был Борис Слуцкий, по косвенным, мелким свидетельствам пытавшийся опознать важные изменения в обществе: по расположению вождей на Мавзолее — грядущие перемены; по той или иной музыке — начало войны. И в то же время становится понятно, насколько все эти мелкие свидетельства бесполезны в случае серьезного, эпохального поворота, — даже такого, о котором ты сам знал заранее. Ребята, за год до войны уговорившиеся написать по балладе на смерть друг друга, оказались так же не подготовлены к разразившейся войне, как и те, кто ни о какой войне не думал. Такого рода события только усиливали интерес Слуцкого к мелким фактам, к деталям, к конкретике. Неважно, что ты и твои друзья знаете: война начнется! Это знание «вообще», оно — мертво и не нужно в тот день, когда война и в самом деле начинается. В-третьих, становится ощутимо мощное, настоящее честолюбие молодого Слуцкого, его неутолимое и неутоленное желание быть субъектом истории, не покорным винтиком огромной машины, но равноправным участником исторического процесса.
«…Я готовлюсь к очередному экзамену за третий курс, — вспоминает Самойлов. — Как обычно, в половине десятого приходит заниматься Олег Трояновский, сын бывшего посла в Японии и США, а ныне и сам посол.
Он спокойный, дружелюбный и замкнутый юноша. Немного растягивая гласные на английский манер, он говорит:
— Началась война.
Включаем радио. Играет музыка. Мы еще не знали о функции музыки во время войны и не умели разгадывать ситуацию по музыкальным жанрам.
Война? Может быть, наши войска вступили куда-нибудь, как в Западную Украину, Бессарабию или Прибалтику? Недавно было успокаивающее разъяснение ТАСС. Стоит ли беспокоиться?
Решаем заниматься. И Олег соглашается. Он спокоен, как обычно.
Однако занятия все же не ладятся. Я понимаю, что, если не сообщу о войне Слуцкому, он мне этого никогда не простит. Такая информация может посрамить такую известную в Юридическом институте пару: Горбаткина и Айзенштадта — основателей агентства «Айзенштадт пресс энд Горбаткин поц», самых осведомленных людей в Москве.
Через полчаса стучусь в знакомую комнату в общежитии Юридического в Козицком переулке…
Слуцкий и его сожители жуют бутерброды, толсто намазанные красной икрой. Кто-то из студентов получил посылку из дома.
— Война началась, — говорю я спокойно.
— Да брось ты, — отвечают юристы.
Я присоединился к ним, не стараясь переубедить. На всякий случай включили громкоговоритель.
Когда мы доедали посылку, объявили о выступлении Молотова.
— Сопляк, — с досадой сказал мне Слуцкий. Он никому не успел сообщить о начале войны…» [76] Давид Самойлов. Памятные записки. М.: Международные отношения, 1995. С. 186–187.
О том, как и когда Слуцкий отправился на Большую войну, он описал сам в очерке «Вещмешок»: «На следующую войну я буду собираться умнее. Но 13 июля 1941 года, когда я городским транспортом (употребление такси нам было мало известно; брали его только в складчину на четверых, когда опаздывали в институт в серьезные, послеуказные дни 1939, если не ошибаюсь, года — за любое опоздание газеты грозили судом) поехал на Курский вокзал, в моем чемодане были вещи только ненужные, не понадобившиеся. А именно:
Однотомник Блока в очень твердом домашнем переплете. Всю жизнь я собирался прочесть “Стихи о Прекрасной Даме” и думал, что на войне выберу для этого время и настроение. Не выбрал (как, впрочем, и после войны).
Однотомник Хлебникова в твердом издательском переплете. Хотел прочитать его “как следует”. До войны не успел, а на войне — успел.
Эти два толстых и твердых, как железо, переплета обесценили мой вещмешок (куда вскоре перекочевали вещи) как подушку. Проще оказалось подкладывать под голову полено.
Читать дальше