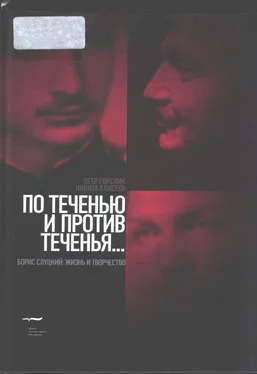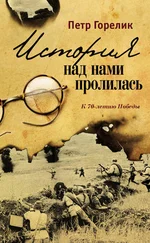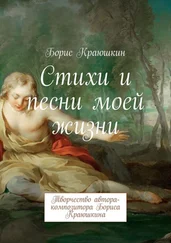<���Если обсуждение не состоялось,> Слуцкий тут же находил интересную замену. Однажды предложил каждому назвать по одному новому слову, как зацепилось в памяти. И началось: Эскалация. Синтезатор. Фарцовка. Обсуждали — как слово возникло, приживется ли и т. д. Поэт, как и всякий пишущий вообще, должен постоянно обновлять свой словарь, освежать его, избавляться от пыльных слов. У нас в семинаре нет никого, кто занимался бы словоизобретательством. Это столь же трудно, сколь малоперспективно. Маяковский придумывал множество новых слов; Хлебников, которому этот эксперимент тоже был не чужд, сумел оставить прекрасное слово “летчик”. Северянин, вовсе перед собой таких задач не ставивший, произвел от слова “бездарность” существительное “бездарь”…
Слуцкого интересовал и круг нашего чтения, <���рекомендовал приобрести книгу или взять в библиотеке>.
Отношение к нашим публикациям было своеобразным, оставался приверженцем суждения: “чем продолжительней молчание, тем удивительнее речь”. Ставил в пример “несуетную музу” Ин. Анненского, оказавшего огромное влияние на Ахматову, Цветаеву, Ходасевича, Набокова… И сам в стихах высказывался на этот счет ясно и недвусмысленно: “Двадцатилетним можно говорить: зайдите через год”.
— Сколько вам лет? — спрашивал у семинаристки, чьи стихи оценивал очень высоко.
— Борис Абрамович, что за вопрос женщине?
— В поэзии женщин нет. Поэтесса — это морковный кофе, а слово поэт существует только в мужском роде. И вы — поэт, в этом мы убедились. Так что извольте отвечать.
— Тридцать пять.
— Да, это уже зрелость. Пора делать книгу.
“Пора делать книгу” — единственная формула, признаваемая Слуцким. Эту фразу он повторил и Александру Королеву — физику, зрелому человеку, чьи стихи рекомендовал в альманах “День поэзии”, а потом многое сделал, чтобы Королев до выхода книги, по рукописи, был принят в Союз писателей.
“Почти все вы, сидящие в этой комнате, люди талантливые. Пишете хорошо и профессионально. А в том, что почти никто из вас не печатается, вините нерадивость редакторов или свою собственную. Учиться хорошо писать мало, надо учиться заставить себя читать”.
Но просить самого Слуцкого о протекции атмосфера нашего семинара совершенно исключала.
Лишь однажды сотрудник “Комсомолки” Юрий Щекочихин привел долговязого юношу из Ижевска Олега Хлебникова, студента, пишущего стихи. Борис Абрамович согласился обсудить дебютанта без особого энтузиазма (не любил ломать запланированные занятия)» [338] Елин Г. Товарищеский суд // Борис Слуцкий: воспоминания современников. СПб.: Журнал «Нева», 2005. С. 484.
.
Вот как вспоминает об этом памятном для него событии сам Хлебников.
«…Скалообразно возвышавшийся над столом Борис Абрамович (видать, у каждого времени в России есть Борисы Абрамовичи — но какая между ними пропасть!) спросил участников литстудии, прочитали ли они за последнее время что-то интересное. Казалось, все занятие пройдет в подобных ответах на этот вопрос, но вдруг Слуцкий, прервав это устное рецензирование, сказал: “Кто тут Хлебников? Выходите!”
Я почувствовал тошноту в коленках, но как-то все-таки сумел подняться. “Читайте! Только громко и членораздельно”, — услышал я приказ майора Слуцкого, который в поэзии (это-то я уже тогда понимал) тянул на генерала. Я начал. “Еще!” Я не понимал, что значит это “еще” — то ли Слуцкий хочет убедиться, что я полная бездарность, то ли оставляет мне последний шанс.
Наконец я отчитался, но оказалось, что мой отчет еще не окончен: Слуцкий начал задавать вопросы — и о родителях, и о цели приезда в Москву, и о родстве и “однофамильстве” с Велимиром Хлебниковым… Я отвечал так подробно, как хотел бы иметь возможность отвечать на Страшном суде. Но вот допрос окончился, и Борис Абрамович обратился к своему семинару — чтобы высказали мнение об услышанном. На счастье, семинар одобрил мое существование в качестве стихотворца… Борис Абрамович спросил, как мне понравился семинар, и велел звонить по его домашнему телефону. Вскоре от ребят из “Комсомолки” я узнал, что Слуцкий продиктовал им вступительную статью к моим стихам. Боюсь, что до сих пор никто не сказал о них ничего более существенного…» [339] Хлебников О. Высокая болезнь Бориса Слуцкого // Слуцкий Б. А. Странная свобода. М.: Русская книга, 2001. С. 12–13.
«…Спустя десятилетия с гаком, — говорит Георгий Елин, — уже не вспомнишь точно многое из тех давних разговоров, но осталась главная память — память сердца, самая верная и навсегда как ощущение праздника…
Читать дальше