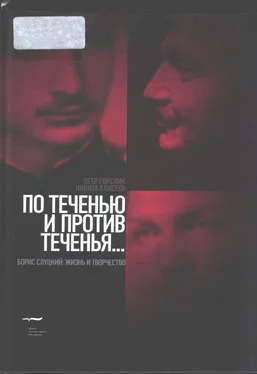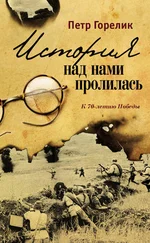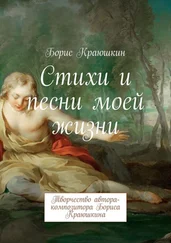С 1972 года Борис Слуцкий стал вести собственный семинар.
У него в этом был небольшой опыт, но он помнил семинары О. М. Брика. У Слуцкого была великолепная школа, пройденная под руководством большого мастера Ильи Сельвинского. Но главное — Слуцкий хотел иметь учеников. Он не собирался растить последователей. У поэта «одноразового стиха» (И. Шайтанов) не может быть последователей — в худшем случае могут быть эпигоны.
О семинаре Слуцкого подробно рассказал один из его первых «семинаристов» Георгий Елин:
«Первоначально это был семинар “имени Евтушенко”, как называли его семинаристы. Евгения Александровича ввиду длительных загранкомандировок часто сменяли известные писатели. В 1972 году семинар принял Слуцкий. И вел его до 1977 года. Официально семинар назывался “Зеленая лампа”.
На двери комнаты, где собрались семинаристы на первое занятие со Слуцким, по иронии судьбы, висела табличка “Товарищеский суд”.
Во вступительном слове новый руководитель “обыграл” табличку. Вступительное слово запомнилось:
— Евгений Александрович попросил меня вести занятия в этом семинаре. Я согласился при условии, что буду заниматься два года, а не год, как хочет руководство. Для знакомства нам потребуется больше времени… сперва запишем тех, кто пришел сегодня. Потом придут еще люди. Отказывать не будем никому.
Меня зовут Борис Абрамович, а с вами познакомлюсь по ходу дела. Будем работать так, чтобы оправдать название этой комнаты, — пусть наши отношения станут действительно товарищескими, без права суда, но с правом труда.
Семинар, случалось, разбухал до 40–50 человек, но к зиме нас становилось около двух десятков.
— Вам, конечно, не терпится, — говорил Слуцкий, — поскорее обсудиться. Должен сразу огорчить: у нас это право надо заслужить. Походите годик, поучаствуйте в разговорах о стихах, а там видно будет.
После такой перспективы семинар быстро худел. Из тех, кто “походил годик”, а потом оказался в постоянном составе семинара Слуцкого на несколько лет, многие сегодня, кто ярче, кто скромнее, профессионально работают в литературе.
Семинарские занятия строились в общем-то традиционно. Очередной обсуждаемый заранее приносил и раздавал рукопись. Слуцкий настойчиво говорил о необходимости читать стихи глазами, не доверял впечатлению на слух. От выступающих требовал аргументированности каждого слова. Оценок и суждений типа “не понял”, “не понравилось”, “это плохо” не признавал. По ходу читки мог сделать замечание в паузе между стихами.
— Подлинного поэта всегда выдает эпитет. К примеру, у Смелякова есть проходные стихи, но нет ни одного, в котором не блеснул бы великолепный эпитет. И он может даже оправдать все стихотворение.
Слуцкий учил “прозванивать” каждое слово на чистоту звучания, быть бережным к поэтическим деталям.
Виктору Гофману сказал:
— Я догадываюсь, о ком вы пишете — о Татьяне Ребровой. Определение “египетские” к ее глазам вполне подходят, а вот почему “как две несхожие звезды”? У Ребровой глаза абсолютно одинаковые, здесь вы перестарались…
Главные уроки, преподанные нам Борисом Абрамовичем, были не только литературными. Он учил терпимости, такту, уважению к товарищам по литературному цеху… <���Однажды> в стылый декабрьский вечер Слуцкий пришел на семинар с большим опозданием и не извинился, как бывало, не поздоровался… оглядел нас словно в недоумении.
— Сегодня мы похоронили Семена Кирсанова. Он был по-своему большим поэтом, и я прошу почтить его память вставанием. — И первым поднялся из-за стола. Мы сели, и он продолжил, ни на кого не глядя: — Вы можете любить или не любить поэта, но не уважать его не имеете права. И мне сегодня больно и обидно, когда никого из вас не видел на кладбище… Две недели назад я и на похоронах Смелякова никого из семинара не встретил, а это уже странно: Семченко и Гофман о нем написать не преминули… — И начал рассказывать о Кирсанове…
— Понимаю, все вы взрослые занятые люди, обремененные службой, а кто и семьями, но… давайте договоримся, что будем все-таки приходить на похороны друг к другу…»
Елин вспоминает, что Слуцкий не терпел «разносных» выступлений, «сдерживал не в меру злоязыкого оратора». Потом вынужден был разбирать не столько стихи обсуждаемого автора, сколько неправоту его оппонентов.
«На первом же занятии предложил в конце каждой встречи, если останется время, говорить на самые разные темы (кроме телевидения — “Я являюсь счастливым необладателем телевизора”), задавать ему самые разные вопросы (но любопытство не должно было касаться его, Слуцкого, — ни жизни, ни стихов).
Читать дальше