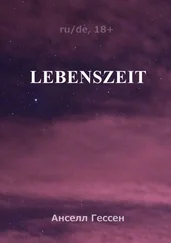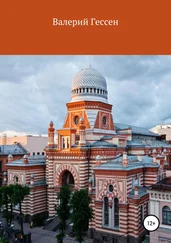Эмиграционный бум не обошел стороной и мою семью. В конце 1970-х решили уехать Саша с Елкой и с детьми. Я была их решением совершенно убита, так как Саша сразу же меня предупредил, что они собираются не в Израиль, а в США. Если бы они ехали в Израиль, я бы к ним присоединилась, не раздумывая ни минуты, ведь я мечтала об этой стране с ранней юности. И Лену мне бы удалось уговорить без труда, и, думаю, даже Сергея, хотя ему было тогда под семьдесят и он без устали повторял, что ему уже не по возрасту перемены, что старые деревья не пересаживают и прочее в том же духе. Позднее он мне все-таки как-то сказал, что, зная мои пристрастия, в Израиль он бы все же со мной поехал. Но мне, увы, не удалось привить своим детям идей сионизма, хотя, видит Бог, я очень старалась. Они все трое, даже полукровка Леня, чувствуют себя евреями, и Израиль их вполне интересует, но не настолько, чтобы захотеть там жить.
В конце концов мне пришлось смириться с Сашиными планами, я подписала бумагу о том, что против намерения моего сына эмигрировать не возражаю и материальных претензий к нему не имею; то же самое сделали мой бывший муж Борис и мать Елки (Елкин отец погиб на фронте в канун ее рождения), и в 1979 году они подали соответствующие заявления. В ту пору уже, к счастью, существовала инструкция, что в подобных случаях не выгоняют с работы обоих супругов (раньше многие семьи оказывались просто на грани голодной смерти), а, по их собственному усмотрению, один увольняется, второй же продолжает работать. Неуезжающие родители всячески скрывали у себя на работе планы своих детей, потому что их тоже ждало увольнение. Я знаю ряд случаев, когда молодые подавали заявление на выезд, родители теряли работу, молодым потом отказывали в визах, но обратно на работу не брали никого.
Елка, работавшая редактором в издаваемом Библиотекой иностранной литературы журнале «Художественная литература за рубежом», уволилась, Саша же остался на прежней должности в своем НИИ. Более того, его вызвал к себе директор института и предложил «джентльменское соглашение»: поскольку Саша работает над проектом, которого в случае его отъезда никто другой завершить не сможет, то пусть Саша трудится теперь изо всех сил, по десять и более часов в день и без выходных, чтобы поскорее все доделать, а он, директор, со своей стороны, обещает платить ему потом жалованье столько времени, сколько понадобится, не поручая больше серьезных заданий. Саша уложился в самые сжатые сроки, директор тоже сдержал слово. Впрочем, он зря тревожился. Саша ждал разрешения более полутора лет, что тогда было отнюдь не редкостью. Они уехали только в феврале 1981 года. Мы прощались в полной уверенности, что это навсегда, что больше уже никогда в жизни не увидимся. Въезд в СССР был для таких «изменников-эмигрантов» закрыт; их навещать тоже было нельзя. Помню, вернувшись с аэродрома, я несколько дней рыдала не переставая. Сергей, Лена, Леня и даже маленький Алеша утешали меня как могли, а я повторяла снова и снова, что потеряла сына, и лила слезы. Но в конце концов ко всему привыкаешь. И я тоже смирилась со своим горем, тем более что от Саши и Елки стали приходить письма — сначала из Рима, а потом, с апреля, уже из США, из Бостона. В Америке их судьба сложилась неплохо. Саша довольно скоро устроился на работу программистом и успешно продвигался по службе, прилично зарабатывал, они купили дом в пригороде Бостона. У Елки не было штатной работы, но она тесно сотрудничала с Русским центром Гарвардского университета, переводила, писала статьи о советской литературе для русскоязычных журналов и газет в США и во Франции, таких как «Континент», «Новое русское слово», «Русская мысль» и другие. Дети учились в школе. Где-то в конце 1980-х фирма, в которой работал Саша, обанкротилась, спрос на программистов в их штате в ту пору сильно упал, и Саша решил попробовать себя в бизнесе. Он вполне преуспел и занимается этим поныне. Увы, как я уже писала, в 1992 году у них случилось несчастье. Вскоре после своей серебряной свадьбы Саша овдовел и живет один до сих пор.
Год спустя после Сашиного отъезда окончил школу Леня. Начались проблемы с выбором направления дальнейшей учебы. Сам он никак не мог решиться: с одной стороны, он очень любил литературу, с другой — у него были явные математические способности. И тут мы с Сергеем совершили ошибку, уговорив его выбрать специальность, к которой у него не было ни интереса, ни особых способностей. Он поступил на факультет экономической кибернетики Московского экономико-статистического института (МЭСИ). Главным фактором, повлиявшим на нашу решимость, был относительно небольшой конкурс в этом институте, что увеличивало шансы поступления. А мы тогда думали не столько о будущей Лениной профессии, сколько об его освобождении в связи с учебой от военной службы. И тут мы жестоко просчитались. Именно в том году достигло призывного возраста поколение ребят, чьи родители появились на свет во время войны (я была в этом смысле нетипична, поскольку родила Леню в сорок один год). В войну, как известно, детей рождалось мало, а когда подросли в свою очередь дети того поколения, то оказалось, что армии катастрофически не хватает призывников. И как раз когда Леня начал учиться в институте, вышло распоряжение об отмене на несколько лет отсрочки для студентов. Таким образом, едва вкусив студенческой жизни, мой младший сын ушел служить в армию. Мы были расстроены ужасно: мало того что это распоряжение было для нас полнейшей неожиданностью, ударом, о котором мы и думать не могли, вдобавок еще рост у Лени 190 сантиметров, а таких, как правило, направляют на флот. Это значило, что он будет служить не два года, как во всех остальных родах войск, а целых три.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


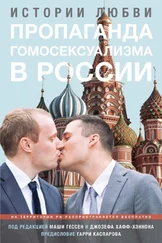
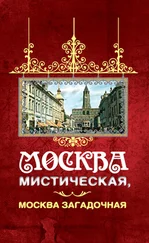
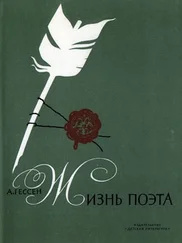

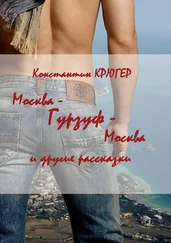

![Юлий Гессен - Жизнь евреев в России [litres]](/books/396900/yulij-gessen-zhizn-evreev-v-rossii-litres-thumb.webp)