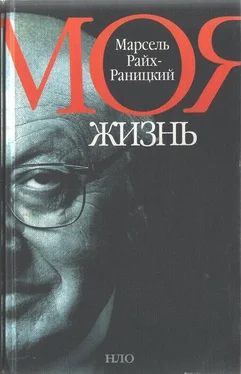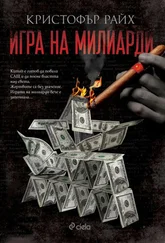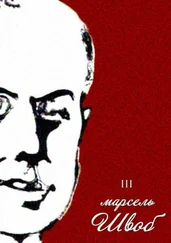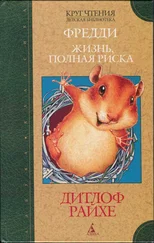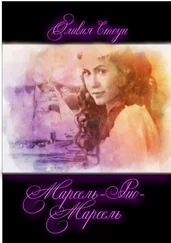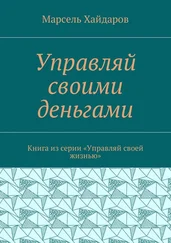Я сижу напротив Тоси и делаю то же самое, чем занимался значительную часть своей жизни, — читаю немецкий роман. Но я не могу как следует сосредоточиться и кладу книгу на низкий столик. Какое-то мгновение смотрю на наш большой балкон, которым мы слишком редко пользуемся. Погода мягкая, солнце заходит, я наблюдаю этот красивый спектакль, — может быть, как обычно, слишком красивый. Не могу вспомнить, хотя мы живем здесь уже более 24 лет, чтобы я смотрел с балкона на заход солнца. Безразлична ли мне природа? Нет, конечно же нет. Но со мной происходит то же, что и с иными немецкими писателями, — она быстро нагоняет на меня скуку. И сейчас я тоже испытываю какое-то смутное беспокойство и нерешительно возвращаюсь в комнату.
Тося читает польскую книгу — стихи Юлиана Тувима. Я тихо присаживаюсь рядом — не хочу мешать ей. Ищет ли она в лирике свою и нашу юность? Скоро шестьдесят лет, как мы вместе. Вновь и вновь мы пытались забыть нашу печаль и вытеснить страх, и всегда литература была убежищем для нас и музыка служила нам приютом. Так было когда-то в гетто, так осталось и до сих пор. А любовь? Да, были ситуации, в которых Тося много страдала. Бывали, хотя и куда реже, ситуации, в которых страдал я. В своем «Тристане» Готфрид из Страсбурга писал примерно восемьсот лет назад: «Кому страданьем не была любовь, / Того она вовек не осчастливит».
Мы познали много страданий, но на нашу долю выпало и много счастья. Но что бы ни случалось, в наших отношениях не менялось ничего, совсем ничего. В комнате все еще совсем тихо, едва слышно дыхание. Тося поднимает взгляд от книги и смотрит на меня, улыбаясь и вопрошающе, будто чувствует, что я ей что-то скажу. «Знаешь ли, сейчас, на нашем балконе, когда садилось солнце, мне пришло в голову, чем я закончу книгу». — «Да ну? — говорит она обрадованно, а потом любопытствует: — И чем же?» — «Цитатой». Я молчу, а она улыбается снова, на этот раз, как мне кажется, с мягкой иронией: «И ты думаешь, что это меня удивит? Ну так выкладывай, что ты цитируешь?» — «Простые слова Гофмансталя», — отвечаю я. Она проявляет некоторое нетерпение: «Ну хорошо, но какие же? Расскажи, наконец». Я колеблюсь мгновение, а потом говорю: «Книга должна заканчиваться словами:
Это греза, то, чего не может быть:
Нам друг друга суждено любить».
Каждая книга имеет историю возникновения. Правда, в большинстве случаев история эта не интересна для публики. Поэтому скажу совсем немного. История этой автобиографии уходит далеко назад — к 1943 году. Тогда, через несколько дней после нашего побега из Варшавского гетто, у меня потребовали ее написать — не кто иной, как Теофила Райх-Раницкая. Я не последовал этому призыву. Я много лет, даже десятилетий, сопротивлялся просьбам на сей счет, которые слышал от самых разных людей, в том числе от Эндрю Александра Раницкого. Я боялся. Я не хотел еще раз пережить все происшедшее в мыслях. К тому же я опасался не справиться с задачей.
Только полстолетия спустя, в 1993 году, я все-таки решился рассказать о своей жизни. Теперь автобиография вышла, и следует поблагодарить всех тех, кто не уставал просить меня написать эту книгу, кто сопровождал ее появление советами и подбадриванием, ожиданием и любопытством, а временами, к счастью, и всякого рода предупреждениями. Я благодарю своих друзей и коллег, в особенности Ульриха Франк-Планица, Фолькера Хаге, Йохена Хибера, Хельмута Каразека, Заломона Корна, Клару Обермюллер, Рахель Заламандер, Штефана Заттлера, Франка Ширрмахера, Матиаса Вегнера и Ульриха Вайнцирля. Важными указаниями и информацией я обязан трем варшавским авторам — Яну Копровскому, Ханне Краль и Анджею Щепёрскому, а также трем научным институтам — Яд-Вашему (Иерусалим), Еврейскому историческому институту (Варшава) и Институту истории современности (Мюнхен). Последним по очереди, но не по значимости я должен поблагодарить директора издательства «Дойче Ферлагсанштальт» Франца-Генриха Хаккеля — за его доверие, инициативы и рекомендации, за его энтузиазм и неутомимость. Я должен, наконец, поблагодарить и моего секретаря г-жу Ханнелоре Мюллер, годами терпеливо помогающую мне.
Стихи из «Тристана» Готфрида из Страсбурга в последней главе моей книги я цитирую в переводе Дитера Кюна. Стихи Владислава Броневского перевел я сам.
Франкфурт-на-Майне, июль 1999 года
Абрахам Пол 211 Адорно Теодор В. 395, 398,
402, 415, 417–421 Айзенштадт Марыся 207,
Читать дальше