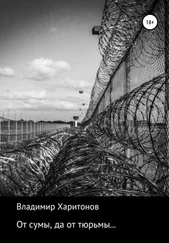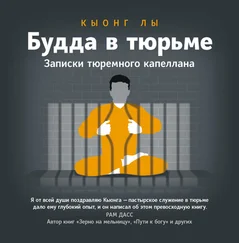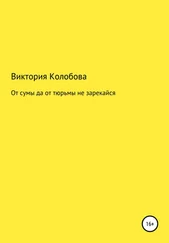— Ну, что тебе сказать? Чехов писал лучше. Этот рассказ а ля Чехов, но значительно хуже.
Такая его оценка надолго отбила у меня охоту писать, тем более что я внутренне был с ней согласен.
Лев Толстой говорил, что писать можно только тогда, когда не можешь не писать. Если бы об этом помнили многие наши писатели… Впрочем, не о них сейчас речь.
Так вот я, точно по Толстому, очень долго мог не писать — и не писал. Но так как мысленно я часто представлял себе создание своей книги воспоминаний и размышлений, то со временем я оказался в плену, в паутине разрозненных, фрагментарных событий былого и, наконец, почувствовал потребность привести весь этот рой образов прошлого в единую композицию.
Книга эта, как и я сам, — беспорядочная. В ней нет ни строгой хронологической последовательности, ни жесткой структуры. На ее страницы выплеснулось многое из того, что хранилось в памяти: запахи родного дома, вкус маминых котлет, воспоминания о детских шалостях и серьезных обидах.
Я вспоминаю здесь и своих родных, и людей вроде бы случайных, но вот ведь оставивших почему-то и зачем-то след в моей памяти! И конечно же, я пишу в ней о бесконечно любимых мною женщинах.
Мне нечего скрывать в своей жизни: в ней было много красивого, счастливого, горького, трудного. Я уже хотел было написать, что в ней не было ничего постыдного, но… коль скоро я обещал говорить правду, то написать так не решился. Думаю, мало найдется людей, которые наедине со своей совестью не устыдились бы какого-либо поступка в прошлом. Что ж, и я не святой.
Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо. А у человека есть и слабости, и недостатки, и просчеты. Не все эти свои черты и события своей жизни я описал здесь — не догола же раздеваться на страницах своих воспоминаний. Однако все, что я здесь написал, — не выдумка.
На этих страницах я старался быть искренним и правдивым. Мне кажется, что хотя бы это мне удалось.
Родильный дом № 7 им. Г. Л. Грауэрмана (ранее носил имя купца С. В. Лепехина, на средства которого был открыт в 1907 г.) упоминается, например, в романе братьев Вайнеров «Эра Милосердия» и в снятом по этому произведению фильме «Место встречи изменить нельзя».
Чернецкая Инна Самойловна (1894–1963?) — танцовщица, хореограф, теоретик танца. Открыла свою школу-студию в 1914 г. Стремясь объединить в постановках музыку, живопись и разные виды сценического движения, Чернецкая создавала танец, который называла «синтетическим». Студия работала в Москве на протяжении 20-х годов XX в., получив статус государственной.
Ялтинская или Крымская конференция — встреча глав правительств трех союзных во Второй мировой войне держав: СССР, США, Великобритании. Состоялась в Ялте 4–11 февраля 1945 г., в период, когда война против гитлеровской Германии вступила в завершающую стадию.
Повесть А. Н. Толстого «Гадюка» заканчивается убийством.
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986), видный советский политический деятель, с 1939 г. был наркомом иностранных дел, а во время Великой Отечественной войны — заместителем председателя Государственного комитета обороны.
Игнатьев Алексей Алексеевич (1877–1954) — потомственный военный, дипломат и мемуарист, полковник Генштаба царской армии, генерал-майор при Временном правительстве и генерал-лейтенант Советской армии. Автор известной книги воспоминаний «Пятьдесят лет в строю».
Персональные пенсии (союзного, республиканского, местного значения) устанавливались лицам, имеющим особые заслуги в области культуры, науки и техники.
Главсевморпуть — Главное управление Северного морского пути при Совете Народных Комиссаров СССР, ГУСМП — государственная организация, созданная в 1932 г. для народно-хозяйственного освоения Арктики и обеспечения судоходства по Северному морскому пути.
Самая известная повесть советского детского писателя Аркадия Петровича Гайдара (Голикова), написана в 1940 г. В ней описываются приключения некой организации школьников: под предводительством мальчика по имени Тимур они тайно помогают членам семей красноармейцев и борются с хулиганами и садовыми воришками из банды Мишки Квакина. После выхода книги о Тимуре понятие «тимуровца», то есть пионера, помогающего людям, широко разошлось по всему СССР. Позже, когда «тимуровская» работа в массе стала не добровольной, а навязанной со стороны школы и пионерской организации, у советских школьников это понятие приобрело саркастический смысл.
Читать дальше
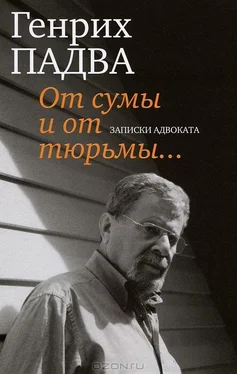
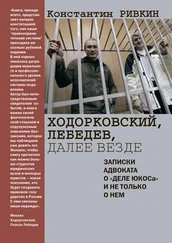
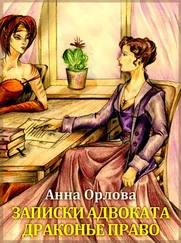
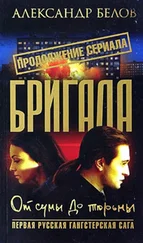

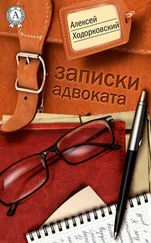
![Анна Орлова - Записки адвоката. Магические казусы [СИ]](/books/422952/anna-orlova-zapiski-advokata-magicheskie-kazusy-s-thumb.webp)
![Виктория Колобова - От сумы да от тюрьмы не зарекайся [litres самиздат]](/books/437220/viktoriya-kolobova-ot-sumy-da-ot-tyurmy-ne-zarekajs-thumb.webp)