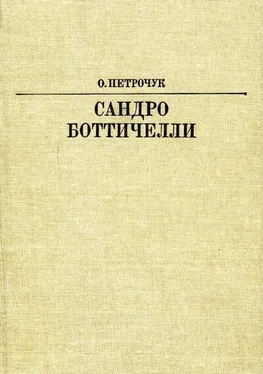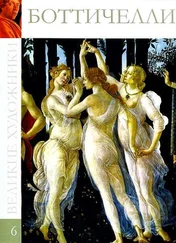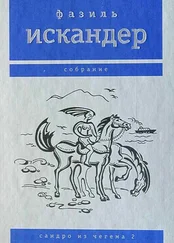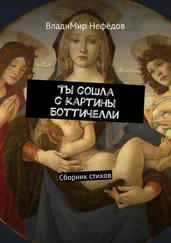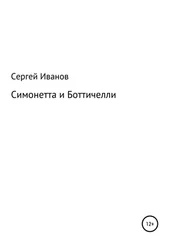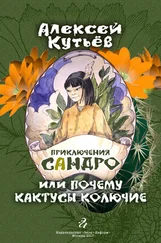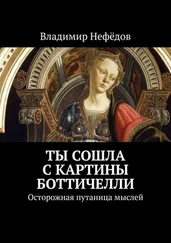В «Истории Лукреции» внешняя изломанность жестов и внутренний надлом образов еще заметнее, чем в «Сценах из жизни Виргинии». Как в нелюбимом самим Боттичелли сюжете фрески «Наказание восставших» в Сикстинской капелле, здесь соблюдено трехчастное деление, в центре которого в качестве символа неколебимости римского могущества высится та же арка императора Константина, но в самой картине решение сцен гораздо более спутанно и невнятно. Намеренно избегая сикстинской достоверности, художник создает совершенно особый, странный, неязыческий и нехристианский мир, сверх всякой меры переполненный пафосом трагической безнадежности.
Особой трагичностью с печатью обреченности отмечена болезненно хрупкая красота светловолосой героини, поникшей с первой же встречи с насильником Тарквинием, чей хищный орлиный профиль противопоставлен ее нежности и безволию, а одержимость запретною страстью — ее чистоте.
Автор ее, кажется, полностью отчаялся в излюбленной идее своей молодости — идее об удивительном «всесилии» женственной слабости. Прелестная слабость растоптана — показывает он в согласии с трогательно простым текстом Овидия:
«…ни сил у нее, ни голоса в горле
Нет никакого, и все мысли смешались в уме.
Но задрожала она, как дрожит позабытая в хлеве
Крошка-овечка, коль к ней страшный склоняется волк».
Такою, только скорее сломленной, нежели просто склоненной, Лукреция предстает после своего невольного греха перед удивленной группой родственников — мужчин. Трое из них, по-разному к ней наклоняясь, бережно, почти робко пытаются поддержать ее неуклонно падающую фигурку. Четвертый, неукротимо гражданственный Брут, вздымает распростертые руки над всею печальною группой, словно призывая небо в свидетели вопиющей несправедливости совершенного злодеяния, напоминая фигуру негодующего «свидетеля», венчающую сцены «Оплакиваний Христа».
«Рана открыта ее. И Брут, созывая квиритов,
Громко кричит обо всех гнусных поступках царя.
Что ж, победитель, ты рад? Тебя победа погубит:
Ведь за одну только ночь царство погибло твое!»
Но Сандро в финале своей версии расходится с Овидием, сознательно не показывая акта осуществленной мести злодею Тарквинию. Для художника все обрывается со смертью его жертвы, и никакое возмездие оскорбителю не возвратит к жизни напрасно загубленную красоту. Безжалостное все поправшее беззаконие, равно как безжалостный «римский» закон, с равной жестокостью давят беспомощных и невинных.
В почти кричащей открытости цвета, в жесткости всех очертаний обе картины отличает какой-то почти металлический привкус. В них словно бы слышится бряцание металла, но не тот победный звон римского оружия, который воспел в своих воистину «железных» «Триумфах» влюбленный в римские древности Андреа Мантенья, а печальный, зловещий лязг и скрежет. Это все, что осталось у Боттичелли от древнеримских гражданственных «добродетелей».
Придерживаясь ныне избранной линии, он возвращается к живописным приемам минувших времен, вплоть до эпохи кристально ясного и невинного фра Анджелико. Но Боттичелли изначально лишен удивительной цельности Анджелико, и оттого разрывает со многим, недавно еще любимым, окончательно отрекаясь от реалистических завоеваний своей молодости, от усвоенных некогда законов и методов постижения видимой действительности, то есть от перспективы, от могущества светотени, передающей пластичность вещей. Всем новациям младших своих современников бывший новатор противопоставляет одно — упрямое архаизирование, но архаизирует Боттичелли не из удовольствия «чистой» архаики — из-за принципиально иных идеологических задач.
Как далеко зашло печальное преображение художника, свидетельствует резко изменившееся соотношение героя и среды в его поздних вещах. Связь обрывается — теперь давящая непроницаемость неподвижных архитектурных кубов открыто противостоит возбужденному исступлению, жару жестикуляции бесприютных фигурок людей. Идейно-психологическая нагрузка всецело ложится на них, но в силу все возрастающего «самоумаления» боттичеллевских персонажей они все чаще объединяются в группы, образующие порою столь же сложный линейный арабеск, как прежде отдельная фигура, но даже в целой группе их меньше весомости, нежели в прежней отдельной фигуре. Неудивительно, что Сандро Боттичелли с некоторых пор не замечают — ибо что за масштаб представляют крошки — герои картинок — кассоне в сравнении хотя бы с «Гигантом» победоносного Буонарроти?
Читать дальше