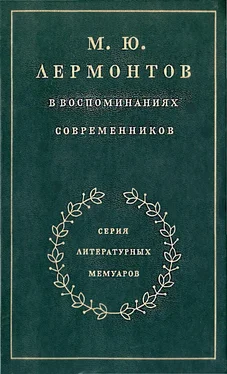раздолье!
В это памятное для меня лето я ознакомилась с чуд
ными окрестностями Москвы, побывала в Сергиевской
лавре, в Новом Иерусалиме, в Звенигородском монасты
ре 6. Я всегда была набожна, и любимым моим воспоми
нанием в прошедшем остались эти религиозные поезд
ки, но впоследствии примешалось к ним, осветило их
и увековечило их в памяти сердца другое милое воспо
минание, но об этом после...
По воскресеньям мы уезжали к обедне в Средниково
и оставались на целый день у Столыпиной. Вчуже от
радно было видеть, как старушка Арсеньева боготвори
ла внука своего Лермонтова; бедная, она пережила всех
своих, и один Мишель остался ей утешением и подпо
рою на старость; она жила им одним и для исполнения
его прихотей; не нахвалится, бывало, им, не налюбуется
на него; бабушка (мы все ее так звали) любила очень
меня, я предсказывала ей великого человека в косола
пом и умном мальчике.
Сашенька и я, точно, мы обращались с Лермонто
вым, как с мальчиком, хотя и отдавали полную справед
ливость его уму. Такое обращение бесило его до край
ности, он домогался попасть в юноши в наших глазах,
декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлу
чен с огромным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым
аллеям и притворяется углубленным в размышления,
хотя ни малейшее наше движение не ускользало от его
зоркого взгляда. Как любил он под вечерок пускаться
с нами в самые сентиментальные суждения, а мы, чтоб
подразнить его, в ответ подадим ему волан или веревоч
ку, уверяя, что по его летам ему свойственнее прыгать
* увеселительные прогулки ( фр. ) .
88
и скакать, чем прикидываться непонятым и неоце
ненным снимком с первейших поэтов.
Еще очень подсмеивались мы над ним в том, что он
не только был неразборчив в пище, но никогда не знал,
что ел, телятину или свинину, дичь или барашка; мы
говорили, что, пожалуй, он со временем, как Сатурн,
будет глотать булыжник. Наши насмешки выводили его
из терпения, он споривал с нами почти до слез, стараясь
убедить нас в утонченности своего гастрономического
вкуса; мы побились об заклад, что уличим его в против
ном на деле. И в тот же самый день после долгой про
гулки верхом велели мы напечь к чаю булочек с опил
ками! И что же? Мы вернулись домой утомленные, раз
горяченные, голодные, с жадностию принялись за чай,
а наш-то гастроном Мишель, не поморщась, проглотил
одну булочку, принялся за другую и уже придвинул
к себе и третью, но Сашенька и я, мы остановили его за
руку, показывая в то же время на неудобосваримую для
желудка начинку. Тут не на шутку взбесился он, убежал
от нас и не только не говорил с нами ни слова, но даже
и не показывался несколько дней, притворившись
больным.
Между тем его каникулы приходили к концу, и Ели
завета Алексеевна собиралась уехать в Москву, не ре
шаясь расставаться со своим Веньямином 7. Вся моло
дежь, и я в том же числе, отправились провожать
бабушку, с тем чтоб из Москвы отправиться пешком
в Сергиевскую лавру.
Накануне отъезда я сидела с Сашенькой в саду,
к нам подошел Мишель. Хотя он все еще продолжал
дуться на нас, но предстоящая разлука смягчила гнев
его; обменявшись несколькими словами, он вдруг опро
метью убежал от нас. Сашенька пустилась за ним,
я тоже встала и тут увидела у ног своих не очень ще
гольскую бумажку, подняла ее, развернула, движимая
наследственным любопытством прародительницы. Это
были первые стихи Лермонтова, поднесенные мне та
ким оригинальным образом:
ЧЕРНООКОЙ 8
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.
Вблизи тебя до этих пор
Я не слыхал в груди огня;
Встречал ли твой волшебный взор —
Не билось сердце у меня.
89
И пламень звездочных очей,
Который вечно, может быть,
Останется в груди моей,
Не мог меня воспламенить.
К чему ж разлуки первый звук
Меня заставил трепетать?
Он не предвестник долгих мук,
Я не люблю! Зачем страдать?
Однако же хоть день, хоть час
Желал бы дольше здесь пробыть,
Чтоб блеском ваших чудных глаз
Тревогу мыслей усмирить.
Средниково
12 августа 1830 г.
Я показала стихи возвратившейся Сашеньке и умо
ляла ее не трунить над отроком-поэтом.
На другой день мы все вместе поехали в Москву.
Лермонтов ни разу не взглянул на меня, не говорил со
Читать дальше