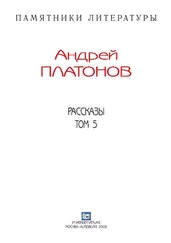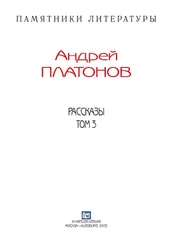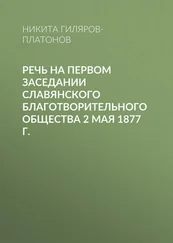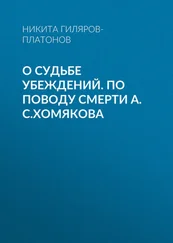Над своекоштными, рассеянными по одиночным квартирам и родительским домам, надзора не было никакого, хотя и числились по городу «старшие». Своекоштные были вольные птицы.
Когда это произошло? Через неделю после первоначальной нашей рассадки или раньше? Что вообще происходило в первые дни, как явился к нам один профессор и другой профессор, о чем они говорили, какие уроки нам были заданы, с чьей тетради я списывал учебник словесности и даже списывал ли, где добыл учебник Кайданова по всеобщей гражданской истории и даже обладал ли этою книгой, как и где учил уроки, как и у кого «слушался» — все затмилось. Как будто авдитором был Солнцев, уже взрослый малый, бривший бороду, белокурый, со звонким голосом, позволявшим ему отвечать уроки по истории с особенною отчетливостью звуков, отчеканивать. Так темно припоминается все, что не вполне решаюсь себе доверить. Яснее помню, как вошел к нам лектор греческого языка (преподавателями греческого и французского с немецким были в Низшем отделении лекторы, ученики Богословия). Помню, что это было в утренний класс, да и то удержалось в памяти лишь по особенной искривленной улыбке, которая свойственна была лектору и которую я тотчас же, при первом разе, заметил, удержал в памяти и доселе живо представляю. Помню еще приход инспектора, иеромонаха Евсевия (скончавшегося архиепископом Могилевским, кажется, в прошлом году). Приходил он пред тем, как мы должны были объявить, которому из языков кто из нас желает учиться, французскому или немецкому. Что-то он говорил, кажется о новых языках вообще, и, по-видимому, рекомендовал немецкий на том основании, что немецкая литература обилует учеными книгами. Но все это «по-видимому», «кажется» и «будто». Помню еще, и это достоверно, что собирались деньги (от меня ничего не сошло) на покупку книг для ученического чтения; что куплены были «Часы благоговения» и сочинения Жуковского. Это было тоже в первое время, но когда именно, о том не помню. Множество мелочей из коломенской, более ранней жизни ясны в памяти, а семинарский период и самое его начало, которое, казалось бы, должно всего неизгладимее запечатлеться по резкости перехода, тускло мерцают.
Брал ли я «Часы благоговения»? Кажется, нет, и если брал у кого-нибудь на посмотрение в течение четверти часа, то читать, наверное, более двух-трех страниц не читал. Еще не кончился тот период, когда рассуждения и чувствования в книгах вообще мною пропускались.
Почему избрал я французский язык, а не немецкий? Это помню. 1) Потому что присоветовал брат, сам учившийся хотя по-немецки, но недовольный этим. Незнание французского языка особенно давало ему чувствовать свою невыгоду в то время, когда он жил у Киреевских, где семейство и все знакомое общество преимущественно объяснялись по-французски. 2) Я уже начинал учиться самоучкой французскому, переписал собственноручно правила произношения, составленные знакомым брата И.И. Горлицыным, и заучил наизусть исключения из правил. 3) Мне претила немецкая печать: какие-то каракули, «тараканьи ножки», как я их тогда называл. Каждая буква казалась насекомым и возбуждала омерзение, которое усилилось тем более впоследствии, когда товарищи показали мне письменное начертание букв. Искусственность начертания, удаление от ясной простоты латинского меня возмущали. И не предполагал я, что будет чрез шесть лет со мною! Положим, с азбукой немецкою я до сих пор не примирился, но никак не мог я ожидать, чтобы полюбил впоследствии литературу немецкую и восчувствовал, наоборот, брезгливость ко французской.
По отношению к описываемому периоду жизни вообще я нахожу себя в положении археолога, который по сохранившимся обломкам и отрывкам пытается угадать утратившиеся части и сравнительным путем определяет хронологическую данную, в летописях умолчанную. Когда я, например, в гроте Александровского сада встретил француза-путешественника, заинтересовавшегося книжкой, бывшей у меня в руках, и записавшего ее заглавие? В каком году это было, 1839, 1840 или 1841? Начинаю соображать время года, час дня и по этим и другим признакам определяю первоначально, когда этого не могло быть. Отсюда уже, по соображению других обстоятельств, прихожу к достоверному заключению, что происшествие случилось в августе 1841 года. Таким-то образом восстановляю и всю историю шести лет, но восстановляю притом не самое пребывание в семинарии, а обстоятельства внешние, современные семинарии, и по ним уже семинарию. Оттого это, полагаю я, что семинария во внутреннем моем росте мало участвовала; он был плодом внутренней работы. Разве я учил уроки? Никогда. Разве я слушал профессоров? Я более над ними смеялся; а начиная со Среднего отделения (Философии), только и знал, что смеялся, смеялся внутренно и критиковал их в товарищеских беседах, подцеплял ошибки, уличал невежество (не в глаза, конечно). Когда прохождение курса оказывалось только внешним прикосновением к нему, он и не мог оставить глубокого следа: пренебрежение сказалось забвением.
Читать дальше