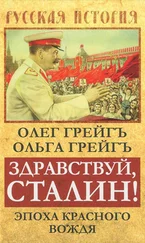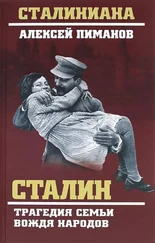Однако статья Сталина и директивы ЦК не внесли успокоения. В них не было главного – объяснения, что же делать с уже созданными колхозами. Крестьяне взяли решение этой проблемы в свои руки. Они разрушали колхозы силой, разбирали обобществленное имущество и семена, восстанавливали ликвидированные единоличные межи. Противоречивые сигналы из Москвы лишь стимулировали антиколхозные выступления крестьян, порождая растерянность у местных активистов. На март 1930 г. пришелся пик войны в деревне – более 6,5 тыс. массовых выступлений, что составляло около половины всех выступлений за 1930 г. Всего в 1930 г. восстали около 3,4 млн крестьян [311]. Исходя из этого, можно предположить, что в марте в волнениях участвовали 1,5–2 млн человек. Верхняя граница кажется более правдоподобной, так как ОГПУ было заинтересовано преуменьшать размах антиправительственных волнений. Часть выступлений была достаточно хорошо организована. Крестьяне создавали свои отряды и брали под контроль значительные территории.
Наиболее серьезные восстания прокатились по Украине. Здесь в марте 1930 г. состоялась почти половина всех крестьянских выступлений, зафиксированных в стране. Особое беспокойство властей вызывали восстания в пограничных районах. В Тульчинском округе на 16 марта бунтовали 15 районов из 17. Из 50 сел были совершенно изгнаны представители советской власти. Вместо них избраны старосты. В большинстве сел округа были ликвидированы колхозы. Восставшие избивали коммунистов и комсомольцев, изгоняли их из сел. В некоторых селах наблюдались вооруженные выступления. Бунтовщики вступали в перестрелку с отрядами ОГПУ.
События на западных границах породили в Москве страхи по поводу возможного вмешательства Польши. 19 марта председатель ГПУ Украины Балицкий получил от Сталина выговор. Сталин требовал, чтобы он «не речи произносил, а действовал более решительно». Оскорбленный Балицкий ответил, что лично выезжает в «угрожаемые участки» с опергруппой, а не руководит «только из вагона» [312]. Однако указания Сталина были приняты к исполнению. Г. К. Орджоникидзе, побывавший с инспекцией на Украине, писал, что восстания в пограничных округах подавили «вооруженной силой, пустив в ход пулеметы и в некоторых местах пушки. Убитых и расстрелянных 100, раненых несколько сотен» [313].
Практически не имея оружия, крестьяне не выдерживали столкновений с хорошо вооруженными отрядами ОГПУ и мобилизованными коммунистами. Отдельные попытки крестьян объединиться – посылки гонцов и делегатов в соседние села, объявление тревоги набатом церковных колоколов – в целом не принесли успеха. Волнения были раздробленными и не координировались. Это облегчало действия передвижных карательных отрядов, позволяло им одновременно контролировать большие территории. Массовые аресты вожаков волнений, «кулаков», сельской интеллигенции, показательная жестокость карателей также ослабляли силу крестьянского сопротивления. В то же время крестьяне вели себя куда более миролюбиво, чем власти. Как правило, они не убивали своих обидчиков, а только изгоняли их из сел. В результате правительственные силы не терпели серьезного урона. Свою роль сыграли лживые обещания властей. Важным фактором ослабления волнений выступал весенний сев. Крестьяне уходили на работу в поля – от сева зависел будущий урожай, а значит, и жизнь. Однако уже осенью 1930 г. насильственная коллективизация возобновилась с прежней жестокостью. Вскоре в колхозы согнали большинство крестьян.
Коллективизация – одно из ключевых достижений Сталина, на котором в значительной мере держалась его диктатура. Все остальные черты сталинской системы можно рассматривать как производные от коллективизации. Массовое насилие над самым большим классом страны требовало создания значительного карательного аппарата, системы лагерей и спецссылки, окончательно превратило террор в главный метод управления. Коллективизация резко и почти сразу разрушила многочисленные традиционные социальные связи, усилила атомизацию общества и облегчила идеологические манипуляции. Произвольное и беспощадное выкачивание из деревни ресурсов (как материальных, так и человеческих) позволяло принимать бездумные экономические планы, безнаказанно расточать «легко» полученные средства и жизни.
С самого начала насильственная коллективизация и неэффективная индустриализация нанесли по стране удар, от которого она в полной мере так и не сумела оправиться. В 1930–1932 гг. были расстреляны и заключены в лагеря несколько сотен тысяч «вредителей» и «кулаков», а более двух миллионов «кулаков» и членов их семей отправлены в ссылку [314]. Многие высланные были обречены на смерть: в местах ссылки «кулацкие» семьи размещали в не приспособленных для жизни бараках, а нередко в чистом поле. Ужасные условия существования, непосильный труд, голод вызывали массовую смертность, особенно среди детей [315]. Однако и положение крестьян, избежавших репрессий, было незначительно лучше. Разоренная коллективизацией советская деревня заметно деградировала. Падало производство зерна и урожайность. Полная катастрофа постигла животноводство. Численность лошадей сократилась с 1928 по 1933 г. с 32 до 17 млн, крупного рогатого скота – с 60 до 33 млн, свиней – с 22 до 10 млн и т. д. [316]Несмотря на падающее производство, государство при помощи колхозов выкачивало из деревни все более значительную долю продукции. Колхозы за все годы существования советской власти так и не смогли прокормить страну. Большинство советских граждан при Сталине в лучшем случае жили на скудном пайке. Многие периоды были отмечены голодом. Одним из самых страшных был голод 1931–1933 гг. – закономерный результат политики скачка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
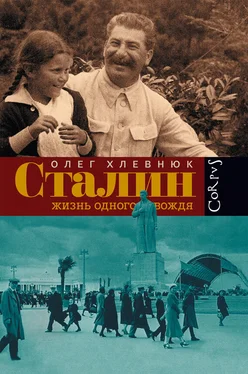
![Юрий Галенович - Сталин и Мао [Два вождя]](/books/32541/yurij-galenovich-stalin-i-mao-dva-vozhdya-thumb.webp)
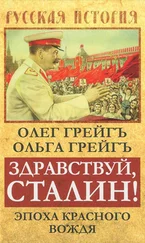

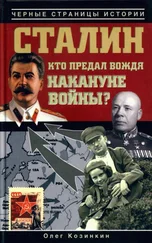


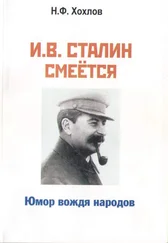
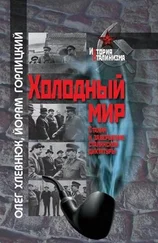

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)