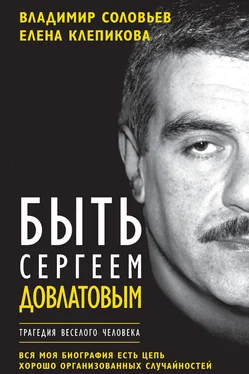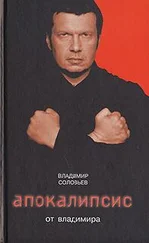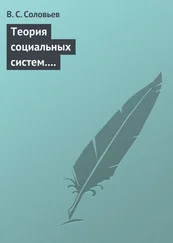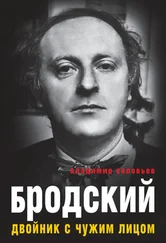Отношения с Лимоновым не сложились, причин тому множество. Одна из: он не из породы управляемых. Тем более — покровительствуемых и благодарных. А для тебя покровительство было одной из форм самоутверждения в пред— и особенно в постнобелевский период. Когда Довлатов взмолился: «Унизьте, но помогите», это была не просто адекватная, но гениальная формула твоей доброты к соплеменникам. Однако, в отличие от Довлатова, который из породы самоедов и готов был стелиться перед кем угодно, Лимонов не принял бы помощь, которая его унижала. Либо принял бы, а в благодарность откусил руку дающего. Честолюбие распирало его, литературные претензии и амбиции были ничуть не меньше твоих при куда меньшем потенциале. Потому и приходилось добирать внелитературными средствами, что недодала литература, с которой он в конце концов завязал, обозвал на прощание пошлой нае**ловкой и пустился во все тяжкие военно-политической авантюры, писательству предпочтя армейский прикид и автомат Калашникова. Уже за одну эту измену литературе его следовало посадить, но посадили его, увы, за другое. Когда ты вытравлял в себе «политическое животное», не гнушаясь им, впрочем, но используя исключительно в языковых целях в стиховых гротесках, Лимонов всячески его в себе лелеял, пока не взлелеял политического монстра. Но я все-таки думаю, что политика для него — одна из форм паблисити, перформанс, хэппенинг, пиарщина. И что потешная партия нацболов — пьедестал для ее дуче-изумиста. Но это уже за пределами твоей жизни — может, любопытно будет узнать, если у тебя есть возможность заглянуть оттуда в этот мой файл.
По поводу лимоновского изумизма — в ответ на мое «скандал в природе литературы» — ты, помню, говорил:
— Не других изумлять, а самим изумляться, ибо мир изумителен. — И повторил по слогам: — И-зу-ми-те-лен.
— А как же «красавице платье задрав»? — вспомнила я обидный для нас, девушек и б. девушек, стишок. — Лично я хочу, чтобы видели дивное диво. По другому — не желаю.
— Если хочешь, эти стишата — изумление перед собственным изумлением. Что ты еще способен. Изумляться, трахаться — едино. — И приводил как пример изумления и страсти к Венеции эквестриана со стоячим болтом на Большом канале. — Alas, это чувство глохнет, атрофируется. Nil admirari, ничему не удивляться, — формула импотенции, хотя мой друг Гораций имел в виду нечто другое. Весь этот скепсис, мой включая, — не от хорошей жизни. Изумлять других хотят те, кто сам не способен изумляться. Изумист Сальвадор Дали, например, был импотентом, мне Таня Либерман рассказывала, а ей Гала сообщила. Хочешь знать, тщеславие — это альтруизм, работа на публику. Талант, наоборот, высшая форма эгоизма и самоудовлетворения. То есть внутрь, а не вовне. Вот почему твой Лимонов — эпатёр, а не писатель.
Это ты задним числом, оправдывая себя за историю с «Это я — Эдичка», когда, в ответ на просьбу редактора дать пару рекламных слов на обложку, с ходу стал диктовать по телефону:
— Смердяков от литературы, Лимонов…
Напрасно издатели отказались: негативное паблисити могло бы сыграть позитивную роль. Лимонов объяснял этот кульбит так: ты помогал соплеменным литераторам в русских изданиях, но боялся конкуренции в американских — пытался приостановить публикацию по-английски романов Аксенова, Аркадия Львова, Саши Соколова. В долгу перед тобой он не остался и обозвал поэтом-бухгалтером. Вот тогда ты его и пригвоздил: «Взбесившийся официант!» — и иначе как Лимошкой с тех пор не называл. Бросал брезгливо: «Гнилушка». Зато посмертно Лимошка взял у тебя реванш и выдал целый каскад антикомплиментов: «непревзойденный торговец собственным талантом», «сушеная мумия» и проч. и проч. Теперь, надеюсь, вы квиты?
Суть этого конфликта, мне кажется, вот в чем: тунеядец, пария, чацкий, городской сумасшедший в Питере, ты стал в изгнании частью всемирного литературного истеблишмента, тогда как Лимонов остался за его пределами, застрял в андеграунде, так и остался навсегда Лимошкой. Человек обочины, на стороне аутсайдеров — сам аутсайдер. Выдает за личный выбор, ссылаясь на французский опыт.
Оставшись за бортом американской жизни, Лимонов эмигрировал из Америки во Францию (в обратном направлении проследовал Шемякин, его приятель и мой работодатель; как пишет Лимонов, обменялись столицами), причем овладел французским настолько, что стал французским журналистом, а мог бы и писателем — кончил бы жизнь академиком. Так он сам считает. Сомнительно. На самом деле это горемычная его судьба — быть подонком среди подонков. Всюду: в Харькове, в Москве, в Нью-Йорке, в Париже, опять в Москве. Точнее, в Лефортово.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу