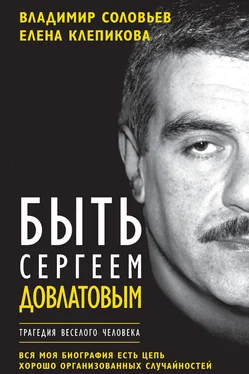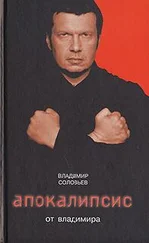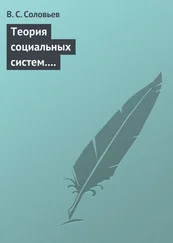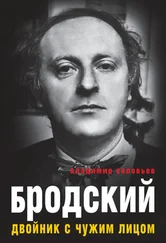Имея в виду понятно кого.
— А почему бы тебе, дядюшка, тоже не сочинить себе некролог загодя, пока есть такая возможность?
— Пока не помер?
— Хоть бы так, — говорю.
— Был прецедент. Эпитафия себе заживо. Стишок. Князь Вяземский написал в преклонны годы.
— Тем более. Возьми за образец. Коли ты другим отказываешь в праве писать о себе.
— С чего ты взяла? Я не отказываю. Вранья не хочу.
— А правды?
— Правды — боюсь.
И добавил:
— От себя прячусь. Всю жизнь играю с собой в прятки.
— Не надоело?
— Голос правды небесной против правды земной, — напел ты незнамо откуда взятые слова на знакомый мотивчик. — В детстве мечтал стать летчиком и, знаешь, в конце концов стал им. Выражаясь фигурально. Почему летчиком, а не танкистом? Механизм ясен? Чтобы глядеть вниз из-за облаков. Что я теперь и делаю. Я не о славе. Яркая заплата на ветхом рубище певца. Довольно точно сказано родоначальником, на уровне не хуже Баратынского, который лучше. Понимаешь, детка, я уже по ту сторону жизни, за облаками, и гляжу на земных человечков с высоты — нет, не птичьего, бери выше! — ангельского полета. Пусть они там — то есть здесь — обливаются слезами, что мне ваша земная правда, чувство вины и etc, etc, etc? Как говорил Виктор Юго, которого в России зачем-то переименовали в Гюго: пусть растет трава и умирают дети.
— Это называется по ту сторону добра и зла, — подсказала я.
— Что делать, искусство требует жертв. Погляди на меня — что осталось от человека? Ради искусства я пожертвовал собой…
— …и другими.
— И другими. Искусство превыше всего. Человеческие трагедии — его кормовая база. Мы унаваживаем почву для искусства.
Думал ли он так на самом деле или только так говорил?
С одной стороны, прижизненная слава, конечно, кружила голову, внюхивался в фимиам, кокетливо отшучивался: «Там, на родине, вокруг моей мордочки нимб, да?»
— Дядюшка, а твоя фамилия случаем не Кумиров? — спрашиваю. — Ты сам с собой, наверное, на «вы», как Довлатов с тобой.
С другой стороны, однако, опасался, что после смерти, которую напряженно ждал вот уже четверть века и навсегда прощался с близкими, ложась на операцию геморроя или идя к дантисту, слава пойдет если не на убыль, то наперекосяк, что еще хуже.
Сам творил о себе прижизненный миф и боялся, что посмертно его собственный миф будет заменен чужим, сотканным из слухов и сплетен.
— Стишата забудутся, а мемуары незнакомцев останутся. Ужас.
— Но не ужас, ужас, ужас!
Анекдот из его любимых — про б*****.
Ухмылялся:
— Предпочитаю червей мухам.
Мухи над твоим будущим трупом начали кружить задолго до смерти. В Израиле то ли в Италии, а может, и там и там, поставили про тебя спектакль, так ты трясся от возмущения:
— Какой-то сопливый хлыст с моим именем бегает по сцене и мои стихи под ладушки читает. Каково мне, когда сперли мое айдентити!
Раз психанул и выгнал одного трупоеда: еле оторвал — так присосался. Тот успешно издавал том за томом сочиненные им разговоры с покойными знаменитостями, невзирая на то, что некоторые умерли, когда он был еще в столь нежном возрасте, что ни о каких беседах на равных и речи быть не могло (как, впрочем, и позже), а к тебе стал подступаться, не дожидаясь смерти. Ты как-то не выдержал:
— А если ты раньше помрешь?
Грозил ему судом, если начнет публиковать разговоры, но тот решил сделать это насильственно, явочным путем, игнорируя протесты.
— Трепались часа три в общей сложности, от силы четыре, а он теперь норовит выпустить двухтомник и называет себя Эккерманом.
— Он что, тебя за язык тянул? — сказал папа. — Никто тебя не неволил. Не хотел бы — не трепался. Жорж Данден!
— Как ты не понимаешь! В вечной запарке, в голове за*б, особенно после премии — сплошная нервуха. Не успеваю выразить себя самолично, письменным образом. Вот и остается прибегать, прошу прощения за непристойность — воробышек, заткни уши! — к оральному жанру. Лекции, интервью, все такое прочее. А там я неадекватен сам себе. Написал в завещании, чтоб не печатали писем, интервью и раннего графоманства. Шутливые стихи на случай — сколько угодно. К примеру, который про воробышка. Ничего не имею против. Даже наоборот.
— Что до самовыражения, ты уже исчерпал себя до самого донышка, — сказала мама, которая присвоила себе право резать правду-матку в глаза. Зато за глаза могла убить человека, тебя защищая.
— Пуст так, что видно дно, — без ссылки на Теннисона, но нам круг цитируемых им авторов был более-менее знаком, хотя и нас нет-нет да ставил в тупик. — Ты это хочешь сказать?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу