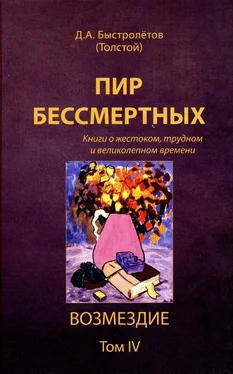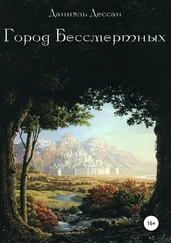В Тайшетский распред по абакумовскому набору бывших ежовских контриков прибыл старый юрист, которого мы с Анечкой знали по Сиблагу — он там отсидел срок, был выпущен на свободу, а спустя лет пять снова возвращён за проволоку. Я обратил на него внимание до того, как узнал: заметил счастливую улыбку среди печально поникших лиц. Подошёл. Мы узнали друг друга и разговорились.
— Нет, доктор, мне повезло, я опять в лагере! — возбуждённо заговорил мой старый знакомый. — Вы знаете, меня выпустили с лишением всех прав на пять лет или, как у нас говорят, с намордником. Привезли в глухую деревню и отпустили — иди, мол, свободный человек, и не забудь дважды в месяц расписываться у опера! Я сунулся за работой в колхоз — нельзя! В сельсовет — нельзя! На почту — нельзя! В школу — нельзя! На медпункт — нельзя! А больше мест для получения работы и средств к жизни в деревне не было. И сбежать нельзя — нет паспорта! Так я промучился четыре года. Обнищал до крайности, опустился. Каждый раз, когда думал, что умру от голода, попадалась случайная временная работёнка сторожем или посыльным, и неминуемая голодная смерть за моими плечами делала один шаг назад. Наконец, я не вытерпел, поехал в райцентр к оперуполномоченному. Дело было утром. Он сидел, подлец, ел бутерброды, запивал их крепким чаем и читал газеты. У меня потекли слюни. В таком забитом животном, как я, при виде бутербродов вдруг вспыхнуло человеческое чувство — я пришёл, чтобы униженно и слёзно просить, а вместо этого стал протестовать.
Я (резко): Я умираю с голода!
Он (спокойно): Здесь не богадельня!
Я (вызывающе): Дайте работу!
Он (не отрывая глаз от газеты): Здесь не биржа труда.
Я трясся от ярости, глотая слюни, а опер сидел напротив меня и спокойно ел. Чистенький, довольный. Я вскочил, не помня себя, и уже около входной двери обернулся и выпалил ему в лицо:
— Только в Советском Союзе может быть такая проклятая жизнь! И её создали ваша партия и лично Сталин! Вот вам!
Я уже схватился за щеколду, чуть не стукнувшись лбом о дверь, до того был ослеплен голодом, горем и яростью.
— Постойте, вы! Идите назад, слышите? Вернитесь!
Голос опера звучал приветливо, нежно, почти сладко.
Я повернулся.
За столом опер левой рукой отодвинул тарелку и чашку, а правой взял лист бумаги и ручку.
— Садитесь! Не желаете ли пяток бутербродов с колбаской и рыбкой? Что? Наверное, и чаю! А? С лимончиком? Я так и думал! Дежурный! На носках! Давай сюда покушать. Живо! Человек голоден, слышишь?
Не успел я закрыть открывшийся от удивления рот, как передо мной появились тарелка с грудой бутербродов и большая кружка ароматного чая с лимоном. Я схватился за сердце — что это, не сон ли?
И принялся есть… Жрать… Трясясь от страха, что добрый опер передумает и прикажет унести недоеденное.
Но опасения были напрасны — опер не передумал.
— Покушали? Ну, и прекрасно! Курите? Вот папиросы, берите, берите, не стесняйтесь! Ну, а теперь давайте поработаем: вы просили работу — вот она и нашлась! Что вы сказали о жизни в Советском Союзе? О товарище Сталине? А? Мы с вами сейчас откроем дело по обвинению вас в антисоветской агитации! Поскольку вы — бывший контрик, получите десяточку! Начинаем протокол допроса!
Я отвечал на вопросы и захлебывался от радости, доктор, понимаете — отвечаю, а внутри всё дрожит — конец моим мукам, я снова в заключении, милый мой доктор, говорю, и в голове прыгает: «Наконец-то избавился от свободы! Освободился от неё на десять лет!»
Вот, друзья, система, доводящая честного и нормального советского человека до такого состояния! «Наконец-то я освободился от свободы!» — лучше этого не скажешь!
Пауза.
— Анекдот, убедительный своей реальностью.
— Страшное время…
— Да. Так было.
— Неосталинизм, — произнёс Борис, закуривая папиросу, — это проявление материальной заинтересованности и страха потерять место у кормушки. Пока будет кормушка, до тех пор будет и кормушечная идеология. Жив и набирает силу бюрократический партийный аппарат, значит будет жить и крепнуть неосталинизм. Бюрократ — это кормушеч-ник, и неосталинизм — это его кормушечная идеология.
Степан сделал знак рукой и сказал:
— Но тут надо подчеркнуть и ещё одно обстоятельство: сталинщина и неосталинизм — это признаки слабости. Так было у Сталина, так мы наблюдаем теперь и у Хрущёва: он шагнул было к демократии, но поскользнулся и опёрся на своего учителя. Неосталинизм — резервная линия на случай отступления.
Читать дальше