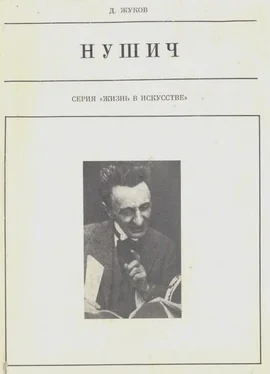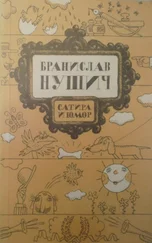Это был картинный молодец, принципиально носивший народный костюм. Заняв скромное место учителя в смедеревской гимназии, эмигрант тотчас с головой окунулся в общественную жизнь. Его густой красивый бас нашел применение в местном хоре. Джура верховодил на «беседах», похоронах и пиршествах, произнося страстные националистические речи.
На занятия с Алкой он являлся регулярно. Однако, если бы кто-нибудь посторонний заглянул во время этих занятий в дом Джордже Нуши, он увидел бы мальчика и его молодого учителя, распевающих песни. Вероятно, сначала Джура был преисполнен благих намерений — решал со своим подопечным задачки и вдалбливал в него школьную премудрость, но очень скоро стал сбиваться на свою излюбленную тему. Лукавый Алка охотно поддакивал ему и с удовольствием слушал народные героические песни, «закаляющие сердце серба». За довольно короткий срок Алка уже знал на память около тридцати героических поэм, которые потом с успехом декламировал перед своим классом. Разучивали они и патриотические стихи Змая, Джуры Якшича…
Бывало, в комнату заглядывал отец, и один из обманщиков, только что декламировавший:
«Грянь, гром! Сильней звон сабель!
Круши все острием!
Ведь не страшны юнаку
Ни молния, ни гром», —
начинал бубнить:
— Есть три неопровержимых доказательства того, что земля круглая. Во-первых…
Именно Джура Конёвич привил будущему писателю вкус к языку и литературе. Бранислав Нушич до глубокой старости с благодарностью вспоминал своего репетитора и знал наизусть все тридцать юнацких песен, выученных не по школьному принуждению в ту пору, когда ум воспринимает все полюбившееся искренне и страстно, а память особенно цепка.
* * *
В доме Нушей произошел переполох. Исчез двенадцатилетний Алка. На столе осталась записка, в стиле которой ясно прослеживался ее пропагандистский источник.
«Прощайте, дорогие папа и мама, я ухожу на войну освобождать порабощенных братьев».
Шел 1876 год. К тому времени Джура Конёвич был уже далеко от Смедерева. Очевидно, там же, куда отправился маленький Алка.
Через Смедерево проходила старая дорога на Царьград. Со стороны Белграда время от времени подходил длинный караван барж, влекомый пароходом «Делиград». С барж высаживались солдаты, строились в колонны и с песнями маршировали дальше, на юг. Сербское княжество решило вступиться за своих единокровных братьев и объявило войну Турецкой империи.
В России с сочувствием следили за этой неравной борьбой. И не только следили. Русские славянофилы подняли и возглавили мощное движение в помощь сербам. По всей стране создавались славянские комитеты, устраивавшие собрания, на которых пожертвования лились рекой. Русские организовали в сербских городах госпитали, в которых кроме врачей работало много знатных женщин, пожертвовавших во имя идеи благополучием и комфортом.
Преодолевая препятствия, чинимые царским правительством, в Сербию устремились добровольцы. За короткий срок в сербскую армию вступило 2400 русских солдат и около шестисот офицеров всех чинов, сосредоточившихся главным образом при Моравско-Тимокском корпусе, которым командовал отставной генерал-майор русского генерального штаба Михаил Григорьевич Черняев.
Личность эта была незаурядная. Он сражался на Малаховом кургане в Крымскую войну, отличился на Кавказе. В 1865 году, имея всего две тысячи солдат и проявив безрассудную храбрость, взял штурмом Ташкент, в котором насчитывалось тридцать тысяч защитников. На другой день после взятия Ташкента объехал город почти без охраны, а вечером отправился в общую баню, будто у себя в России, заслужив своей смелостью уважение даже самых фанатичных мусульман. Местное население полюбило его, но вскоре он был уволен со службы за строптивость. Став штатским человеком, Черняев занялся журналистикой и примкнул к московскому кружку патриотов-славянофилов, группировавшихся около Ивана Аксакова, разделяя их ненависть к бюрократизму и иноземному засилью. С началом войны на Балканах он сразу же увлекся движением в защиту славян и вступил в сношения с сербским правительством, которое пригласило его в Белград. Русское министерство иностранных дел приняло меры и поставило его под надзор петербургской полиции. Тогда Черняев переехал в Москву и оттуда тайком отправился в Сербию. В июне 1876 года он уже был в Белграде.
Федор Михайлович Достоевский писал о Черняеве, что генерал «служил огромному делу, а не одному своему честолюбию, и предпочел скорее пожертвовать всем, — и судьбой и славой своей, и карьерой, может быть, даже жизнью, но не оставить дела. Это именно потому, что он работал для чести и выгоды России и сознавал это» [4] Ф. М. Достоевский, Дневник писателя. — Полн. собр. соч., т. 11, Спб., 1905, стр. 326.
.
Читать дальше