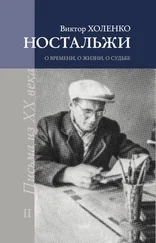За окном начался дождь. Оба смотрели на бегущие по стеклу капли.
— Я очень благодарен Жану. Жаль, что он не заходит.
— Стесняется. Он спас вам жизнь.
— Я…
— Не шевелитесь, лежите спокойно. Как ребра?
— Чертовски болят, дышать больно. Но кровохарканья уже нет.
— Повернуть ногу?
— Пока нет, спасибо.
— Вы не против? — спросил Лерон, медленно набивая и раскуривая трубочку, внимательно наблюдая за раненым художником, лежавшим в постели. Оба закурили и некоторое время молчали. Художнику нравится старый моряк.
— Жан спас вам жизнь и оказал большую услугу нашему делу. Ваша благодарность может быть только в одном: перестаньте быть комаром! Становитесь в ряд с Жаном, в борьбе вам скоро представится случай самому спасать товарищей и побеждать врагов. Разве вас не тянет на большее, чем проповеди добра?
— Вы правы и не правы. В общем-то, ваше сравнение нахожу полезным.
— Комарами остаются те, кто по-интеллигентски атакует бронированную крепость в одиночку. Их уколы безвредны: они надоедают и злят, но от них не умирают, мсье ван Эгмонт. Станьте же борцом, солдатом великой и грозной армии. Пора…
Художник понимал, что Лерон прав. Он и сам хотел быть солдатом революции. Но внутреннее сопротивление превозмогло: он молчал и злился на себя за это.
— Перед тем как нырнуть в смрадную дыру экваториального леса, вы додумались до главного: всему виной капитализм и надо с ним бороться. Вы даже поняли, что пока вы одиноки и цепляетесь за свою индивидуальность, борьба не будет серьезной. «Мое там, где наше», — думали вы. Не правда ли?
— Да.
— Вот видите, Жан Дюмулен на вашем месте повернул бы назад, сохранил жизнь двадцати трем людям, приехал в Европу и вступил в партию, которая единственная, я подчеркиваю, единственная не на словах, а на деле борется за очищение нашей жизни от мерзостей капитализма. Он стал бы коммунистом. А вы до встречи с фашистской бутылкой петляли по дебрям Конго и Парижа.
— Вы хотите сказать, мсье Лерон, Жан давно коммунист и умнее меня.
— Жан встретился с барской рукой раньше вас: он рабочий с 16 лет. Ему ездить в Африку для прозрения не нужно! Он, по правде говоря, родился зрячим. Жизнь подводит пролетария к пониманию смысла окружающего грубее и прямее. Вы дорого заплатили за свои заблуждения, скорее поймите это и откажитесь от них. Обрывайте золотые нити, связывающие вас с мессэром Пьетро, а через него с де Хааем и Чонга. — Лерон улыбается. — Видите, как хорошо я усвоил вашу терминологию, мсье ван Эгмонт.
Ван Эгмонт скашивает глаза изо всех сил и старается глядеть на свой нос:
— Мсье Лерон, нити слишком тонки, предательски тонки. Конечно, выход у меня всегда был, видимо, нужно было, чтобы фашист поднял бутылку и, как ключом, открыл ею нужную мне дверь.
Франсуа Лерон приходил к художнику по утрам, когда здесь еще никого не было. Адриенна появлялась позднее и начинала устраивать обед. Эти ранние часы серьезной беседы ван Эгмонту очень нравились. Оба не спеша говорили, часто курили и молча слушали доносившийся из-за стены деловой шум: там помещалась какая-то экспедиция, дробно стучали машинки и звонили два телефон. Издалека, из-за высоких домов, сюда доносился ровный гул Парижа. Скоро еще одно обстоятельство сблизило их — знание русского языка и гордость тем, что оба побывали в России. Они каждый день минут двадцать говорят по-русски — так, для практики, и гордятся этим. Так родилась дружба. После каждой беседы ван Эгмонту казалось, что он сделал шаг вперед или поднялся на одну ступень выше. Он спорил и возражал потому, что в нем говорили два голоса — прежнего и нового ван Эгмонта. Художнику думалось, что он говорит словами старого ван Эгмонта, а товарищ Лерон возражает ему его же словами и мыслями, но от лица уже нового ван Эгмонта. Это были споры с самим собой. В них побеждал новый человек, а старый отступал задом в темноту, шаг за шагом сдавая позиции и, в конце концов, должен был скрыться. Когда? Художнику страстно хотелось крикнуть себе: «Завтра! Нет, сегодня!» — но он помнил о золотых нитях, которые многих влекут назад, он открывал в себе все новые нити и рвал их. Он уже готов был торжествовать победу, но на завтра обнаруживал другие новые нити — такие тонкие, что их едва удавалось разглядеть и едва можно было догадаться, кто тащит их с другого конца. В его душе упорно жил интеллигентный мещанин в романтической шляпе с пером, этот фальшивый красавец не хотел уходить — выгнанный в дверь, он лез обратно в окно.
Читать дальше