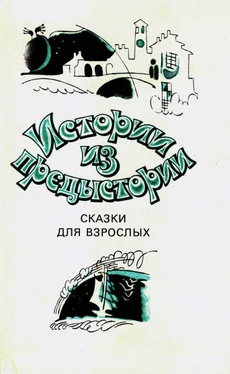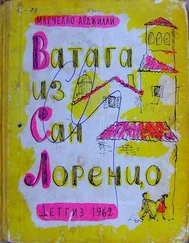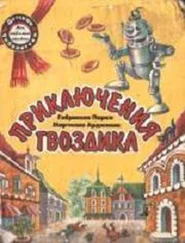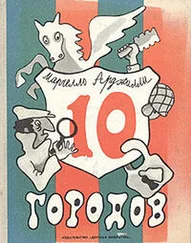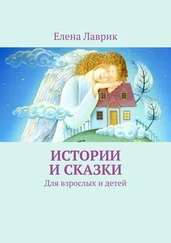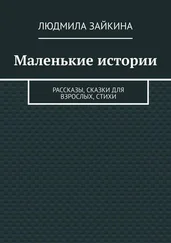В таких условиях литературная сказка могла быть либо обращена исключительно в далекое прошлое, либо носить обличительный характер. С той незначительной особенностью, что обличать разрешалось лишь чужих, врагов и недоумков, почему-то не понимавших всю грандиозность и неповторимость времени, в котором им выпало счастье жить.
Замечательный детский писатель Самуил Маршак очень талантливо высмеивал и разоблачал американского расиста мистера Твистера, не замечая ни шовинизма, ни национализма в своей собственной стране. В Италии же Сальватор Готта сочинял трогательные героические сказки о балиллах — юных фашистах, готовых ради дуче не задумываясь пойти на смерть.
Ну а в сфере устного народного творчества процветал анекдот — единственно возможная реакция на громогласную фашистскую риторику. После падения фашизма он вошел неотъемлемой частью в итальянскую литературную сказку, особенно в сказки Малербы, и на то были свои исторические причины.
Когда в результате второй мировой войны и немецкий и итальянский фашизм были разгромлены и на смену им в Германии и в Италии пришли демократические режимы, наступил, как это часто бывает после времени бесправия и безгласности, период эйфории. Народ ждал и верил, что теперь-то настанет царство полной социальной справедливости и равноправия (убедительное доказательство неистребимой живучести мифов). На этот раз, правда, некоторые ожидания сбылись. Итальянцы обрели три основные свободы: печати, слова, собраний. Их жизнь со временем стала много богаче и комфортабельнее. Однако вместе с достатком и комфортом в полной мере проявила себя и социальная индифферентность — феномен, описанный Альберто Моравиа в романе «Равнодушные», что во время создания романа (1929 год) требовало от писателя немалой смелости. Но если бы восторжествовало только это совсем не евангельское безразличие к ближнему!
Новая государственная власть очень быстро обюрократилась, свои собственные интересы стала отождествлять с общенациональными, подчинила все логике обогащения, нередко ценой компромиссов с совестью.
В этих условиях писатели, сохранившие верность вековечным понятиям о морали и евангельскому принципу изначального равенства людей, обратились к сатире. Они решили обо всем «говорить прямо». Критик Паоло Маури в своей монографии «Луиджи Малерба» пишет, что «в сказках Малербы эта суровая откровенность родилась из возмущения, а также из чувства бессилия гражданина перед лицом общественных властей или, вернее, намеренной бездеятельности этих последних».
Конечно, свой гнев, разочарование и растерянность перед разительным несоответствием послевоенной итальянской действительности чаяниям тех, кто сражался против фашизма, полно и сильно отразила литература неореализма — такие писатели, как Васко Пратолини, Карло Бернари, Доменико Реа, Анна Мария Ортезе, Рената Вигано. Но литература эта оказалась слишком документальной и фотографичной, чтобы передать реальность новой Италии во всей ее многогранности и парадоксальности. Пренебрежение сатирой, парадоксами вполне устраивало власти предержащие, которые неореализм, казалось бы, яростно клеймил. Так, Паоло Маури пишет: «Катастрофа, видимо, заключается именно в априорном запрещении парадокса во имя защиты существующего порядка. Не случайно в тридцать второй главе „Пиноккио“ деревянного человечка снова приводят домой два стражника». Да-да, еще Карло Коллоди в своем искрометном «Пиноккио» с горькой улыбкой незаметно подводит нас к мысли, что общество ничего так не боится, как необычности, оригинальности суждений, не совпадающих с общепринятым здравым смыслом.
Где можно легче и удачнее всего передать мудрость шута, честность плута, искренность фантазера, как не в сказке?
Вполне закономерно, что в конце 60-х — начале 70-х годов крупнейшие итальянские писатели Альберто Моравиа, Карло Бернари, Итало Кальвино, Луиджи Малерба, Мария Корти, Джованни Арпино, Гуидо Рокка, Либеро Биджаретти стали писать сказки «для взрослых и детей», а Джанни Родари, Рене Реджани, Эрманно Либенци — «для детей и взрослых».
Грань между детской и взрослой литературами была ими стерта с умыслом. Они убедились сами и постарались убедить нас в том, что ставшая расхожей максима «Устами младенца глаголет истина» содержит в себе немалую долю яда для людей здравомыслящих и потому полных самомнения и горделивого сознания своей непогрешимости.
Читать дальше