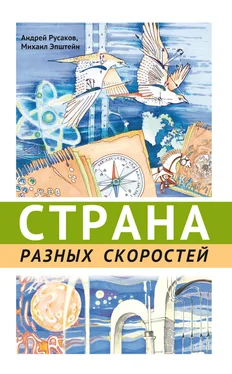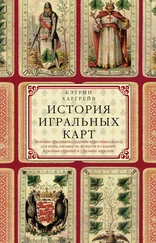Отстранимся от индийской экзотики, но запомним само отношение: история занята поиском ответов на детский вопрос «откуда оно такое»? – когда возникло, как выросло, почему оказалось именно таким?
Слоёные истории, или Три круга империи
Братья Стругацкие несколько раз пересказывали сюжет своего ненаписанного романа, намеченного продолжением «Обитаемого острова». В нём Максим Камерер направляется вглубь Островной империи, пытаясь с огромными трудностями проникнуть в её сердце.
Фронтир империи ощетинился своего рода адом: военными садистами, племенами людоедов, бандами преступников, сплетением передовых военных технологий и крайнего одичания.
Но те, кто умудрялся преодолеть пограничные области, оказывались в куда более уютном «чистилище» – в землях, населённые «средними людьми» с обычными и осторожными нравами, грехами и достоинствами.
А вот на центральных островах открывался рай, едва ли не аналог коммунистического мира Полудня, откуда прибыл главный герой. Только творческие, мудрые и гуманные аристократы Островной империи не представляют, что мир может быть устроен как-то иначе: что их «коммунизм» может существовать без опоры на людоедскую периферию.
Возможно, архетип идеалов имперской государственности наметился у Стругацких слишком резким и узнаваемым, чтобы доводить сочинение романа до конца. А мы оттолкнёмся от этого сюжета и прикинем, какого рода взгляды на прошлое подошли бы каждому из трёх имперских кругов? Вообразить их несложно:
• интеллектуально-утончённая история-искусство, вдохновляющая элиту центрального «рая»;
• шовинистически-погромная, «военно-патриотическая» история-истерия, заряжающая фронтир энергией озлобления;
• и путаная, расшатанная в ценностях, фактах и ориентирах, зато более-менее успокаивающая и усыпляющая история для среднего «обывательского» общества.
Не правда ли, такие ведущие композиции историографической музыки нам хорошо знакомы? Но делают ли три столь испытанные формы «обработки прошлого» более достойной жизнь сегодняшнюю?
Личная история
Общий тренд историографии второй половины XX века – уход от ажиотажного интереса к подробностям великих событий и к деяниям великих героев; на первый план вышли систематизация и анализ источников, связанных с обыденной жизнью, с культурой повседневности, с тем, как трагические или возвышенные события «большого времени» проходили через судьбы конкретных людей.
Наряду с этим шло массовое возрождение интереса к семейным воспоминаниям. Когда-то родовые предания о собственных предках и представляли собой основную «историческую науку» для каждого человека. (Именно о такой истории – известные строки пушкинского черновика: «…На них основано от века // По воле Бога самого // Самостоянье человека, // Залог величия его» .) Лишь с эпохи Просвещения трактаты о великих этапах национального и всемирного развития начали активно оттеснять «семейную историю» с глаз долой, достигнув цели лет за полтораста.
Теперь история в зеркале родных биографий повсеместно возрождается. Прошлое твоих родителей, бабушек и дедушек, их родни, их предков; семейные истории твоих друзей – именно такие иллюстрации к «большой истории» вызывают настоящее доверие.
Или же не иллюстрации – а точки отсчёта? Сперва настоящее, личное, кровное, а уже от него отсчитывется нечто более абстрактное и всеобщее.
Не случайно для такой истории не было места в советских школах; слишком резко в подростковых руках всплывали факты нежелательные и опасные для всех: и для родителей, и для учителей, и для государства. Семейная память – невольная и неистребимая угроза для истории-мифологии закрытого общества. Фигуры умолчания о прошлом, на которых во многом держится общественное благополучие, бывают слишком ломкими для проверки живой памятью.
Обратная перспектива
Углубление в личную историю грозит и сменой перспективы. Когда ты вжился в мысли и чувства кого-то из твоих давних родственников, то словно уже не сам всматриваешься в прошлое, а напротив: это из прошлого устремлён на тебя мудрый оценивающий взгляд, который высматривает в тебе воплощение неких своих надежд, нравственных ожиданий и грёз о будущем.
История изнутри , история глазами «прежних» людей переворачивает наш собственный взгляд: ведь те люди видели впереди не «магистральную линию» развития событий, а спектр альтернативных возможностей. Они стояли перед развилками непредсказуемого будущего, которое пытались угадать и предвосхитить, делая тот или иной выбор (а перспективы их судеб представлялись им зачастую совсем не так, как сложились потом). Стоит взглянуть на поток времени их глазами – и многое уже в нашей современности захочется признать куда менее однозначным, куда более хрупким и требовательным к нам.
Читать дальше