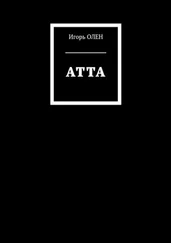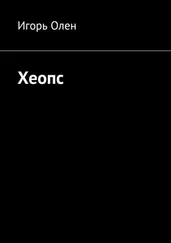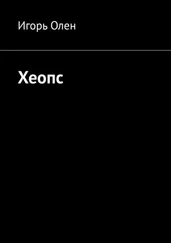Вот что мнил Разумовский высказать церкви, да и всем людям, кои услышат, через монаха, но не успел сказать, ибо сделалась, – вдруг, как всё здесь, – метаморфоза. «Тронутый Олигарх» шагнул уже, когда Ройцман (тип в чёрной шляпе и в лапсердаке, также при пейсах), кинувшись, из костра взял пачку, с краю горящую. Молодой человек, остриженный, в форме хаки, в чёрных перчатках, деньги те отнял и отшвырнул прочь; зноем от ýглей их понесло вверх; после купюры ссыпались в речку, где затряслись в волнах. Люди бросились в воду. С криком ругательный и бровастый старик помчал вдогон:
– Деньги, суки, не трожь, сказал! Сына деньги – мои!!
Клюкой сплеча он взгрел бабу и, цапнув пару мокрых купюр, свалился. Первым к нему затрусил художник в сером плаще; направились вскоре все, шушукаясь, что дед «дубу даёт, верняк», и позвавшие инока исповедать упавшего.
– Бог? Ты баксы дай, а не бог… – хрипел старик. – С ними я проживу, слышь… – После, вцепившись в рясу монаха, он произнёс: – Бог вправду есть? – и затих, скончавшись.
Инок избавил складки на рясе от цепких пальцев.
– Жить целят в злате, а умирая, просятся к Богу, – он возгласил.
Толян (пока наглые два юнца, снуя в «адидасах», схватывали близ мёртвого оброненные деньги) крикнул за речку: – Эта… Михалыч! Нá смерть ставь выпить! Нету Закваскина. Он того… акей!
В нестерпимой жаре от рослого, в ослепительно белом всём, человека, словно нарочно для Разумовского, возбуждая в том ярость и бред Лас-Вегаса, прозвучало неспешно, как бы и судно:
– Кончился, как и все миллиарды прежде живущих, ныне покойных. Ибо законы неколебимы: ты хоть всю жизнь им рабствуй, всё же подохнешь. Ибо законы.
И говоривший двинулся с травяной косы через тальники вверх, к избе на яр.
Это не были фразы, вник Разумовский. Это был хаос, кой воля разума сводит в космос, то есть в расчисленный, объяснимый, взвешенный мир. Не слушая слов Крапивина, излагающего про джип смятенно, быстро пройдя вниз, к речке, так что лишь метры чистой воды отделяли его от мыса с вяло дымящими угольями костра, он начал бескомпромиссно:
– Вы, Квашнин, мракобес, паяц. Я не вас не посрамлять пришёл; я про ваш фарс не знал; случайно здесь оказался. Вы же в том месте, где ваши предки, знаем, боярили и губили Россию, возобновляете их разор! К разбойному их невежеству подключили юродивый свой апломб, фигляр? Лучше вам взять и «сдохнуть», как заявили. В мерзости Квасовки, перед сбродом оборванных жалких люмпенов, вы творите спектакль, злой фарс, оскорбляющий разум. Вы жжёте деньги, что этой массе дали бы свет, культуру, средства для нового! Вы могли здешних юношей обучить в институтах; старых послать на курорт на юг; алкоголиков, вылечив, вы могли бы пристроить честно трудиться; а идиотку, Дану щепотьевскую, сдать в клинику. Вы же, шут, насаждаете хаос. Всякий зевака, видящий, как за миг истребляется воплощённый в банкнотах труд человечества, не захочет работать, так как вы учите, что достоинство дел не значит. Вы и на Западе возбуждаете взгляд на русских как на нелепость. Вы – патология! Дам в Москве ход процессу о помещении вас в психушку, – вёл Разумовский, кто представлял собой в данном случае разум, что над собой и вокруг себя не терпел препон и не стерпит.
Ибо с начал времён разум всем уступал честь, славу, женщин, богатства; не уступал он лишь правоты своей и своей гегемонии; захоти кто быть первым, что значит правым, тот следуй разуму. Либо в разум за истиной – либо в хаос чудес, фантастики, экстатических воплей, сладостных грёз, безумия… Но чем дальше вещал он, тем хуже слушали, – не Квашнин теперь, кто шагал на яр, но толпа вокруг, реготавшая и вставлявшая реплики. Наконец, он вещал уже никому, поняв, что, за неким пределом, здесь, подле речки около Квасовки, где царит Квашнин, обессилел рассудок и началась власть дури и сумасшествия.
– Вы опаснейший тип, Квашнин! – он хотел завершить вдогон, но напившийся оголтелый Толян сказал:
– Колёса где?
И, взглянув на Крапивина и на место, где джипа не было, Разумовский сорвался: – Вы негодяй, Квашнин!
– Что, осёл велелепный? – вроде услышал он и вскричал:
– Убью!!!..
Дальнейшее было дикостью: молодой человек, остриженный, в форме хаки, в чёрных перчатках, тот, что разжёг костёр и тушил после акта «сожи́га», тот, что у Ройцмана отнял доллары, а Ревазову предлагал стрелять, вдруг выхватил пистолет и, гаркнув: «Нá, бери!» – зашвырнул его, изловчась, за речку для Разумовского, кой, схватясь за ствол, громко вскрикнул от боли. Рухнув на скошенную траву, сжав рану, он вроде слышал, как молодой в девайс констатировал: «Пятый пост, молодцы! Отлично!»; также расслышал он, как Толян подошёл твердя: «Тут нельзя стрелять»; и ещё что-то вроде: «Мат уму. Мрут идеи воочию»… Это всё, что почувствовал Разумовский и что воспринял. Дальше пропали солнце, зной, люди, бредшие рядом, тёмные и большие очки (чьи, Даны?). Правый рукав его был в крови, сознание затуманилось… Кто-то нёс его через речку, и он увидел, – как он до этого видел бабочек, – экзотических рыб: майнгано, касидоронов, львиноголовок и телескопов, мохоголовых пёстрых собачек, аргусов, линофрин, тернеций и пигоплитов, красных тритонов, также тряпичников, спинорогов, панд, лир, неонов, меланотений, барбусов, даже дискусов!
Читать дальше