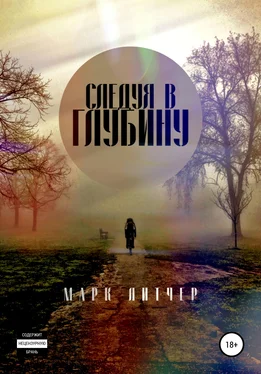– Павел Алексеич, скорее, в пятую, – встревоженная Тамара – явление редкое.
Я подскочил со стула и как был, без халата пробежал от ординаторской мимо поста в другой конец коридора.
В палате стоял гул голосов. Пациент Петров кричал, сдерживаемый высоким санитаром. Двое медсестёр и другой санитар стояли, склонившись над койкой Серёжи Гаманько.
– Диазепам! – скомандовал я, увидев, что тело Серёжи трясётся в судорогах, а изо рта проступает кровь.
– Что случилось? – я обращаюсь ко всем сразу, но смотрю на Люсю, медсестру с выражением ужаса и вины на лице.
– Я пришла поменять ему катетер, – блеет она.
– Она его удааарила, – истерично вопит Петров.
– Никого я не била…
– Вывести всех!
– Он просто вскрикнул, закатил глаза, стал трястись.
Люся нервно жестикулирует.
Люся была новенькой молоденькой девчушкой с большим клювовидным носом. Судя по всему, судорог ещё не видела.
Я держу голову Серёжи, пока медсестра внутривенно вводит лекарство. Серёжа ослабевает, обмякает. Его тело на минуту замирает, и внезапно всё повторяется. Челюсть сжимается так, что в палате слышан хруст крошащихся зубов.
– Ещё диазепам. И зовите реаниматолога, – громко командую я.
Вдруг дыхание Серёжи замирает, он снова отключается. Я пытаюсь нащупать пульс на шее – ничего. Поднимаю веки – зрачки широкие, не реагируют на свет. Чёрт, чёрт, чёрт, где реанимация? Где кто-нибудь?
– Найдите дефибриллятор, быстрее, быстрее, Тома!
В палату медленно входит Антон, врач соседнего отделения. У Антона тупое, безэмоциональное выражение и исковерканный усландский язык. Когда-то Антон работал в реанимации.
– Шито тута в нас? – Антон слушает сердце. – Хутка, на пал, трышцаць кампрэсий, два здыху.
Я в растерянности озираюсь, ожидая помощи.
– Набярыце адрэналин.
Медсестра пытается найти вену.
– Тьфу ты, только же была.
Лупит Серёжу по руке.
– Пад сквицу кали, ци пад ключыцу.
Медсестра непонимающе смотрит на Антона. Тот выхватывает шприц и колет в области левой груди под ключицу.
Я стою на коленях, смотрю, как голова Серёжи качается в такт компрессиям. Кровь стекает изо рта до уха. Наконец приносят кардиограф и дефибриллятор. Спустя минуту Антон говорит: «Ничога. Дэфибрылятар тут ужо не нужон».
Я продолжаю жать на хрупкое тело, ощущая под пальцами хруст рёбер, повторяя про себя проклятья.
Спустя, наверное, минут двадцать Тамара силой оттаскивает меня, смотрит в глаза.
– Всё, всё, успокойся, Павел Алесеич, Паша!
– Я спокоен! Чёрт!
Да, я был спокоен, как извергающийся вулкан, как атомы в адронном коллайдере, как трансформаторная будка, как бомба с обратным отсчётом. И не столько из-за смерти Серёжи, сколько из-за своей беспомощности и, стыдно сказать, предчувствия, что беда не приходит одна. Так оно и вышло.
– Плохой день?
Я сижу в кафе за столиком на улице, передо мной – закрытая бутылка коньяка. Я пью третий эспрессо. Вокруг гогочущая толпа. Поднимаю голову и вижу Максима. Его вот только сейчас не хватало. Он один и вроде трезв.
– Никогда не понимал прелести всех этих тусовок, – говорю я, кивая на веселящихся вокруг людей.
– В большой компании веселее выпивать. Мы же общественные существа, да? – говорит Максим и садится напротив.
– Так и будешь на неё смотреть? Или нальёшь? – спрашивает он.
– Не умею заливать проблемы. Думал может да, но всё же нет.
– А ты попробуй, стоит только начать, – подтрунивает Максим.
– Ты хочешь?
Я пододвигаю к нему бутылку со стаканом.
Максим облизывается.
– Не сейчас. Важные дела.
– Ммм, ну удачи.
– Слышал про интеграцию? – Максим воодушевлён.
– Чего?
– Скоро можем стать губернией, – размахивая руками, говорит он.
– Ммм…
– На рыжего надежды нет, нужно брать всё в свои руки.
– Да плевать. – Я откидываюсь на спинку стула, скрещиваю руки.
– Тебе на свою страну плевать?
– Чем я хуже кота?
– Что? – Максим округляет глаза.
Я достаю телефон.
– Да вот, недавно прочитал, Бродский говорил… Сейчас, я себе репостнул, вот: «Я как кот… Коту совершенно наплевать, существует ли общество „Память“. Или отдел пропаганды в ЦК КПСС. Так же, впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутствие…» Понял? Так что иди нахрен.
Я встаю, обтягиваю рубашку и удаляюсь, оставив Максима с бутылкой наедине.
Разговоры о политике хуже самой политики. Это как разговоры о погоде: можно обсудить, когда не о чем разговаривать с соседом по вагону, но от разговоров погода не меняется. Наверху свои планы на всё, и я не хотел подсматривать за эти кулисы. Когда мне говорили, что, если не интересуешься политикой, однажды она заинтересуется тобой, я лишь молча кивал, создавая впечатление неблагодарного за такие инсайды человека. А всё потому, что мне было интересно жить настоящей жизнью, с личными каждодневными делами и проблемами. Я, в отличие от Максима, не собирался идти к миражам, сжигать нервные клетки своего времени высокими идеалами демократии, под опасливые выкрики «Проснись, Усландия!»
Читать дальше