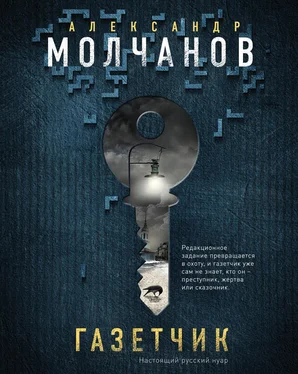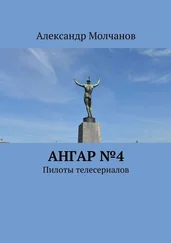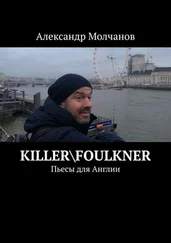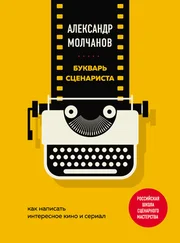— А если понятно, так оторви голову от подушки и начинай есть.
Журналист не пошевелился.
Ситников посмотрел на часы.
— Время пошло. Я вернусь через полчаса.
И Ситников вышел.
Андрей продолжал лежать. И вдруг он улыбнулся. А ведь это было бы здорово. Ему даже делать ничего не нужно. Ситников вернется через полчаса, увидит, что он не притронулся к еде, и сломает ему руку. Потом вторую. И он будет лежать в больнице. На обеих руках у него будет гипс. Его будут кормить и поить с ложечки. А он будет лежать и смотреть в потолок. В этой перспективе Андрею не нравилось только одно — что придется пользоваться уткой и каждый раз для этого прибегать к помощи медсестры. Это было унизительно.
В конце концов есть захотелось. Он сел на кровати и посмотрел на тарелку. Да, ему определенно хотелось есть. Он взял вилку, и через минуту с яичницей и кофе было покончено.
А раз уж он сел, почему бы не встать. Андрей встал и подошел к окну. Осень. Шиченга. Андрей почувствовал подступающую к горлу тошноту и снова осел на кровать. Так он и сидел, когда тихонько вошел Ситников и забрал посуду.
— Так-то лучше, — сказал он, — по крайней мере, не сдохнешь с голодухи.
Андрей думал о том, как он выйдет из гостиницы. Мысленно он проделал этот путь уже много раз. Выйти из номера. Спуститься по лестнице. Пересечь холл. Выйти на улицу. Вроде бы все просто. Но только не для него. Только не здесь.
Он попал в ловушку. Он не мог выйти. Сбежать отсюда он тоже не мог. В тот момент, когда он покинул бы Шиченгу, вся его прошлая жизнь, выстроенная и стабильная, перестала бы существовать. Он мог только лежать здесь, смотреть на стену и ждать. Чего именно ждать? Он не знал.
Учителя собрались у Мокина в кабинете начальной военной подготовки на третьем этаже, чтобы сверить свои наблюдения и составить план дальнейших действий.
— Давайте я начну, — сказал Мокин, перелистывая крошечный блокнот. Все оглянулись на Пергамент. Она кивнула. — Если говорить о выполнении служебных обязанностей, объект продолжает их выполнять как ни в чем не бывало. Он провел три урока по расписанию. Пообедал и сейчас ведет четвертый урок.
Мокин замолчал.
— Это все ваши наблюдения? — насмешливо спросила Пергамент.
— В общем, да, — без тени смущения ответил Мокин.
— Не густо.
Мокин пожал плечами.
— Глупостями занимаемся, — сказал он, — следим за коллегой.
— Глупостями? — зашипела Пергамент. — У нас здесь шестьсот человек детей. Это не глупости? А если он еще кого-то убьет?
— Если его подозревают в чем-то, пусть этим занимается милиция. Это не наше дело.
— Похоже, зря мы вам доверили такое ответственное дело. Кормите нас отписками вместо того, чтобы заниматься делом. А может быть, вы ему симпатизируете?
Мокин махнул рукой.
— А что вы на меня машете? Мы знаем, что вы детям рассказываете о Ницше. Вот до чего он доводит, ваш Ницше.
— Что же им, по Карлу Марксу учиться? — насмешливо спросил Мокин. — Прошло то время.
— По крайней мере, — строго сказала Пергамент, — когда детей учили по Карлу Марксу, в стране был порядок.
— Да уж, знаем мы, какой был порядок — полстраны в лагерях.
Пергамент поджала губы.
— Ваши политические убеждения нам известны, — сказала она.
— Ваши нам тоже, — с вызовом ответил Мокин.
Пергамент на секунду задумалась и решила не отвечать на выпад. Не время. Сейчас есть более важные дела.
— Кто еще хочет что-то сказать?
Учителя начали говорить по очереди. У других с наблюдениями обстояло значительно лучше. Высохшая, как вобла, пропахшая формальдегидом химичка заметила, что Кораблев как-то слишком внимательно присматривался к девочкам в коридоре. Пожилая литераторша обратила внимание на то, что Кораблев как будто разговаривал сам с собой, идя по коридору. По мере того, как всплывали все новые детали, каждому следующему оратору хотелось добавить что-то еще. Не то чтобы придумать, присочинить. Просто каждому начинало казаться, что он видел именно это. Теперь, когда всем, кроме Мокина, было очевидно, что Кораблев не тот, за кого выдавал себя много лет, какие-то мелочи, на которые раньше никто не обращал внимания, наполнились новым значением.
Кто-то вспомнил, что ученики однажды жаловались, что Кораблев имеет манеру прямо во время урока замолчать и задуматься на несколько минут. Если это не подозрительно, то что тогда подозрительно? О чем таком важном он думает во время урока?
Когда дошла очередь до физика по прозвищу Рыбник, он сказал, что Кораблев куда-то выходил на перемене. Пергамент торжествующе посмотрела на Мокина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу