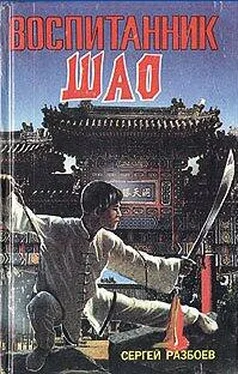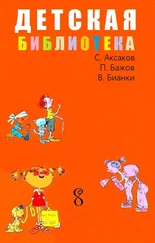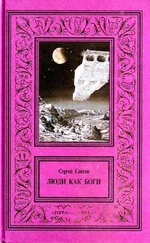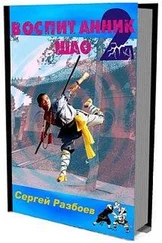Пат посмотрел на ряды.
Снова вскинулись в одном порыве крепкие кулаки в знак согласия с доводами ересиарха.
Врезают небо сабли молний,
И молот грома землю бьет!
Наперекор стихии вольный
Орел совершает перелет.
От сырых досок, распаренных палящим солнцем, несло нестерпимой вонючей жарой. Над поверхностью мертво распластавшегося в изнеможении моря проносился иногда освежающий ветерок, но он был редок и слаб. Океан словно заглатывал всю свежесть в себя и оставлял на воде, пресыщенной испарениями, удушливый, знойный воздух. Жирные, слезливые доски дышали, выпуская весь имеющийся затхлый жар неба. От них несло растопленной смолой, морской прогнилью, перемешавшейся с вонью даров моря — остатков когда-то разделанных и уже разложившихся внутренностей рыб.
С непривычки тошно было вдыхать застоявшийся каторжный запашок, и глаза чаще косили на воду: не сбросить ли часть скопившейся дурноты в утробе за борт.
Рядом, на дне, лежали бытовые принадлежности немудреной жизни, которые тоже были никак не свежее самой джонки. Они в той же степени едко аккумулировали в себе всю нечисть бытовых отходов. Солнце стояло в самом зените, вытравливало из дерева все сгустки ядовитых и неприятных газов, запрятанных в щелях и порах потрескавшихся, но еще годных старых досок.
Лодка шла ходко вперед, и это, видимо, было ее единственным оставшимся преимуществом от той работяги, которой она была еще в сравнительно недавнем прошлом.
Восток. Бытовой колорит.
Тот, кто стал темой ожесточенных споров, не совсем комфортно покачивался в означенной посудине, которая настойчиво держала курс к югу, отмеряя оставленные мили воды за кормой. Ему приходилось сидеть под прелым навесом, чтобы сохранить большую гарантию скрытности.
Старик-китаец, такой же вонючий, как и его лодка, согласился за немалые деньги провезти морем вдоль берега до самого Шанхая. Жалкий моторчик, на который он косился с недоверием, исправно тарахтел и с каждым часом придавал уверенности рыбаку, что после этой поездки он заживет обеспеченней и спокойней.
Вначале старик с недовернем косился на своего пассажира, — но слушая временами раздававшиеся из уст незнакомца песни, успокоился.
Неизвестный, с заброшенным видом, иногда пел подвывающим голосом, реже просветленными глазами впивался в одну точку или дремал, облокотившись о скрипучую мачту. Но больше далекими глазами прощупывал проплывавшие рядом лодки, яхты, катера. Изредка вздрагивал от неизвестной неожиданности и ошалело водил воспаленными глазами вокруг.
Старому рыбаку, немало повидавшему на своем веку, больше хотелось прыгнуть за борт, чтобы не встречаться с этими одичалыми глазами. Не будь твердого слова неизвестного, аванса и самой лодки, дед, наверное, так бы и сделал. Но джонка была его домом: приходилось трястись и молитвенно ожидать, пока на горизонте не появятся контуры великого города.
Пассажир успокаивался. Думы овладевали его настроением, и он, прикрыв глаза, оставался наедине со своими мыслями. Наверное, он еще не совсем осознанно догадывался, почему вокруг него так все завертелось, угрожающе приблизилось действенной опасностью. Иногда по-мальчншески неумело производил что-то вроде улыбки: то не совсем проявленно хмурился, то снова пел — длинно, заунывно. Такие песни старику приходилось слышать от русских, которых помнил еще с последней войны.
А у незнакомца вдруг отчетливо и болезненно в памяти вставали дни, когда он решил покинуть базу, на которой его учили всему, но только не тому, чего он хотел. В последний год все чаще и чаще читали лекции про северный народ — русских, которые, кроме несчастья и вреда, миру ничего не принесли. Но его отцы напутствовали иными славами. Им он верил свято. И родственник словами деда говорил такие же памятливые слова. А здесь, на базе, все становилось совсем по-другому. Почему? Первые два года его и еще многих парней в основном обучали всяким хитростям тайной работы. Но на третий год по три-четыре часа в неделю читали всевозможные лекции. Многое в них не сходилось с его понятиями. Но что? Откуда такой каламбур в голове? Только к концу года, сначала неосознанно, потом все явственней и осмысленней стало доходить, что те очкастые и лысые джентльмены говорили неправду,
Он, Рус, никому ничего не должен. Ничем не обязан. Он волен распоряжаться своею судьбой и жизнью.
Правда, его ценили за качества присущие диверсанту. Но это частности. За конфликты с обучавшимися, и даже жертвы, его не наказывали. В лагере уважали тех, кто железно мог постоять за себя. Но сознание требовало правды, видения истины. Хотелось побыть на той земле, по которой так горько плакал дед.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу