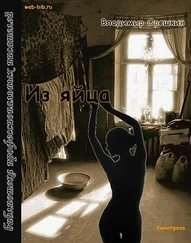Она опять пододвинула ближе сумку, и стала укладывать туда цветные маечки, пакетики с колготками, и прочую женскую бижутерию.
— Ты, как хочешь, — сказал Иван, и в голосе его прозвенело железо. Пусть не сталь, но звенело, это было даже странно. — Ты, как хочешь, но я тебя одну не брошу. Пусть жрет, если ты не наврала… Лучше уж сожрет он, чем сожрет моя собственная совесть.
— А я — за компанию, — рассудительно сказал полковник. — Тем более, мне нужно переговорить с Михаилом.
— Да вы, на самом деле, ничего не понимаете, — сказала Маша. — Дундуки!
И было видно, что обиделась она не на шутку.
Так и вышли втроем на улицу, — где их поджидал длиннющий белый «хаммер» и «джип» сопровождения, — словно бы не замечая друг друга. Но сумку Маша доверила тащить Ивану, не стала напрягаться сама.
— Что она туда напихала, — бурчал Иван сумке, — развлечений-то на пару-другую дней. Двое трусов, запасные носки, тапочки. Все, что нужно… Нет, обязательно засунет туда какой-нибудь тренажер с гантелями…
Но, впрочем, вежливый до предела мужик тут же перехватил у него эту сумку, и, на двух руках, как величайшую драгоценность, опустил в багажник «хаммера».
Всю дорогу, пока ехали, а это получилось минут сорок, они не сказали друг другу ни слова.
Гвидонову нравилось молчать. Он сидел, поставив палку между ног, и положив на нее руки. Сидел и вспоминал часы у себя в кабинете, их неспешный вечный ход, как он часто слушал его, закрыв глаза и вот так же не шевелясь.
Нет ничего вечного. Все когда-нибудь заканчивается. Может жизнь, специально устроена так, чтобы в ней не было ничего вечного. Иногда бывают моменты, когда невозможно понять, как устроена эта самая жизнь. Когда догадываешься, что ничего про нее не знаешь. Но молчать, ему нравилось, — и без того, столько уже сказано всяких слов… Жаль, что засветилась квартира. Теперь туда нельзя возвращаться. Но у него есть еще одна… Это утешало.
Иван же жалел о том, что который раз пропускает курсы английского языка. И вообще бросил школу… Не велика, конечно, беда, — ничему хорошему в школе научиться невозможно, всех там косят под одну гребенку, и преподает одна сплошная Марья Ивановна. Которая за тридцать лет педагогической деятельности вызубрила свой предмет наизусть. А что там, от него справа, или от него слева, — не знает, и знать никогда не захочет.
Но учиться необходимо, — через недельку, когда они освободят Мишку и вернутся, нужно записаться в какую-нибудь, на Полежаевской, чтобы закончить без проблем девятый класс. А в Кембридж, — уже с сентября.
Английский…
А Маше было просто плохо. Потому что ответственность, не успев начаться, уже раздавила ее… Никогда в жизни она ни за кого не отвечала, кроме себя. И дальше не хотела ни за кого отвечать.
Так она устроена, — кошкой, гуляющей сама по себе.
А здесь такое. Иван, да еще полковник… Что делать, как избавиться от непосильной тяжести, которая лишила легкости, и приковала к земле. Что, если с ними что-нибудь случится?.. Тогда я убью всех, — думала Маша. — Всех!.. Всех до одного. Будет море трупов. Гора. Это будут реки крови. Это будет кровавый закат и рассвет! Тогда, я никого не пожалею. Никого!..
От жажды нести смерть, у Маши сжались руки, так что ногти впились в ее ладони, и так сильно, что на них выступила кровь. Не чужая, ее собственная.
Она не замечала ее.
Если бы кто-нибудь в этот момент заглянул в ее глаза, он бы, наверняка, потерял сознание от беспощадности и нечеловеческой жестокости, которыми были они полны. И неизвестно, пришел бы этот кто-то в себя после увиденного, — или уже нет.
Но в глаза ей заглянуть не мог никто, потому что она сидела, смиренной монашкой опустив голову, и смотрела вниз, скромно потупив взгляд, и, казалось со стороны, размышляла о чем-то мирном и женском, сродни мечтам о новой кофточке или блестящей губной помаде…
Их кортеж, состоящий из двух машин, первая из которых время от времени включала сирену, постепенно выехал к кольцевой окружной дороге, ехал по ней, потом свернул в сторону от Москвы, промчался, уже побыстрее, еще минут десять, въехал в открытые ворота какого-то расшикарного дачного поселка, целого городка, самой причудливой архитектуры, не спеша прокатил по нему, въехал в чугунные, — тоже предусмотрительно открытые, — ворота, совершил полукруг, огибая засыпанную снегом клумбу, и остановился у мраморных лестниц, по которым пробегала красная ковровая дорожка, ведущая к колоннам, за которыми виднелись величественные дубовые двери.
Читать дальше