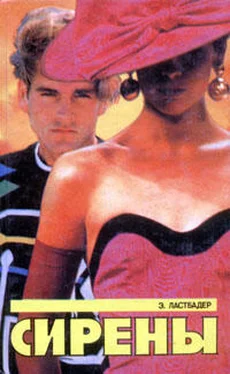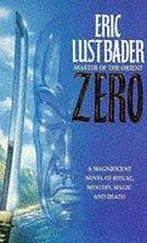— Держаться в стороне? — изумленно переспросила Дайна. — Она была моим другом. Как я могу оставаться в стороне?
Тай открыла рот, собираясь было ответить, но Бонстил во время успел оттянуть Дайну за руку, обращаясь к ней: «Пора идти. Я провожу вас».
Повисло тягостное, натянутое молчание, полное скрытой внутренней борьбы. Противоборствующие стороны сформировались, образовав, как на шахматной доске, два войска белых и черных. Дайне казалось, что все эти люди участвуют в какой-то чудовищной игре, сводившейся к безжалостной взаимной травле — единственному, что поддерживало их существование. У нее не выходила из головы фраза, произнесенная Джоан: «Вы обретаете счастье, только пожирая друг друга живьем». «Нет, — возразила про себя Дайна, — это неправда. Мы не такие. Я не такая. Когда-то я могла стать такой, подражая матери, однако этого не произошло. Жизнь научила меня».
Опять бросив взгляд мимо Тай, она заметила, что Силка внимательно наблюдает за ней. Он прижал указательный палец к губам и не убирал его, пока она не позволила Бонстилу отвести ее назад к Рубенсу.
— Я хочу поговорить с вами, — сказала она тихо.
— Не здесь, — ответил капитан, — и не сейчас. — От этого странного эха ее собственных слов, обращенных к Рубенсу, по спине Дайны пробежал холодок. — Пока мне нечего вам сообщить.
— Нет, есть..., — однако Бонстил уже удалялся, оставив ее с Рубенсом, и занял место рядом с четой Рэтеров. Дайна решила, что это он позвонил им.
Началась служба — долгая церемония, безжизненная и равнодушная. Священник, не знавший Мэгги, распространялся о ней так, точно она с детства ходила в его церковь. Впрочем, видимо Джоан в предварительной беседе сообщила ему все основные факты из биографии сестры.
Посредине проповеди Дайна вдруг поняла, что Рубенс был прав. Похороны предназначались для живых, а не для мертвых, ибо нигде не было ни малейшего следа присутствия женщины, которую когда-то звали Мэгги. Ей не нашлось места в кругу лиц, выражавших ту или иную степень горя.
Наконец два здоровых могильщика спустили на веревках гроб в могилу. Дайне, чьи глаза наполнились слезами, казалось, что в чернеющей яме хоронят не одного человека.
Джоан, отстранившись от мужа, подошла на негнущихся ногах к краю могилы. Священник твердил нараспев:
— Прах — праху, пыль — пыли...
Джоан наклонилась и подобрала горсть земли. Долгое время, будучи не в состоянии пошевелиться, она стояла на месте, бесконечно, ужасающе одинокая. Тай, повернувшись, сказала что-то Найджелу. В то же мгновение судорожным жестом Джоан вытянула руку вперед и бросила в яму комья земли, черным дождем посыпавшиеся на блестящую крышку гроба.
— Не понимаю, что заставляет их продолжать это, — заметил Марион как-то утром на съемочной площадке.
— Продолжать что? — поинтересовалась Дайна. Режиссер сложил свой номер «Гардиан», которую он ежедневно получал авиапочтой из Манчестера. Марион не мог прожить без новостей о событиях, творящихся у него на родине. «Газеты, издаваемые янки, — частенько бормотал он себе под нос, — не умеют сообщать о том, что происходит в мире». Однако в действительности, его в первую очередь волновали новости из Англии.
Он поднял голову и взглянул на Дайну поверх своей любимой чашки из английского фарфора, на три четверти заполненной свежезаваренным чаем, представлявшем собой смесь сортов «Инглиш Брекфаст» и «Дарджилинь», которую Марион регулярно приобретал в одном магазине на Бельгревиа.
— Я имею в виду англичан и ирландцев, — он говорил очень осторожно. — Английский парламент и католиков. — Он отхлебнул чая. — Это уже сидит у меня в печенках. — Марион ткнул пальцем в газету. — Вот хотя бы пример. Они пишут о грандиозной облаве в Белфасте три недели назад. Утверждают, будто она была организована главой ирландских протестантов на севере острова. — На его лице появилось отвращение. — Как обычно, грязную работу выполняли англичане. Именно они прочесывали Эндитаун, вылавливая ребят, подозреваемых в связях с ИРА. — Он покачал головой. — Это была настоящая кровавая баня.
— Однако ведь война длится уже так долго.
— Вот именно! — Он со звоном поставил чашку на блюдце. — И к чему она нас ведет, я вас спрашиваю! Кровь, кровь и кровь — больше ничего. Семьи разрушаются. Повсюду отчаяние и горе. — Он оттолкнул чашку от себя. — Теперь ты понимаешь подлинную причину, по которой я взялся за эту картину? Я хочу показать людям их бесконечную глупость. — Он смахнул «Гардиан» со стола ребром ладони, так что газетные страницы разлетелись по полу, как птицы со сломанными крыльями. — Ах! Зачем я только читаю весь этот кошмарный бред.
Читать дальше