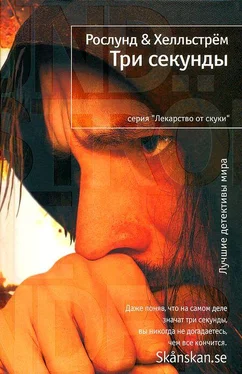— Привези телефон.
— Но…
— Мне все равно, почему он попал сюда. Пускай позвонит.
Пит сидел на краю железной кровати, сжимая в руке телефон.
Каждый раз он запрашивал коммутатор городской полиции. Теперь гудки шли дольше, он насчитал двадцать. Двадцать гудков Вильсону, двадцать Йоранссону.
Ни тот ни другой не снял трубку.
Пит сидел в камере, где не было ничего — только железная кровать и унитаз на цементном основании. Никакой связи ни с окружающим миром, ни с другими заключенными. Никому из надзирателей и в голову не приходило, что он здесь по заданию шведской полиции.
Он влип. Спасения нет. Он остался один в тюрьме, осужденный на смерть своими соседями по тюремному коридору.
Пит разделся догола, замерз. Сделал гимнастику, вспотел. Набрал воздуху в грудь и задерживал дыхание, пока давление в груди не стало болезненным.
Он лег лицом в пол. Ему хотелось почувствовать что-нибудь, что угодно, что не было бы страхом.
Хоффманн понял это, как только услышал, как открылась и закрылась дверь отделения.
Ему не надо было смотреть. Пит просто знал: они уже здесь.
Чьи-то медленные тяжелые шаги. Хоффманн подбежал к двери, приложил ухо к холодному металлу, прислушался. Охранники вели нового заключенного.
И вот Пит услышал знакомый голос:
— Stukach.
Стефан. Его ведут по коридору, в камеру.
— Что ты сказал?
Вертухай, который глаза таращил. Хоффманн плотнее прижал ухо к двери, он хотел расслышать каждое слово.
— Stukach. Это по-русски.
— У нас тут не говорят по-русски.
— Один — говорит.
— Давай двигай!
Они здесь. Скоро их будет больше. Скоро все, кто сидит в строгаче, узнают: в одной из здешних камер жмется по углам стукач.
Голос Стефана — сама ненависть.
Пит нажал на красную кнопку. Он не снимет с нее палец до тех пор, пока не придет кто-нибудь из надзирателей.
Они дали ему понять, что уже здесь и что его гибель — вопрос времени. Часы, дни, недели. Те, кто следил за ним, кто ненавидел его, знали: придет момент, когда ему больше нечего будет ждать.
Квадратное окошко открылось, но глаза были другие — того, пожилого инспектора.
— Я хочу…
— У тебя дрожат руки.
— Какого…
— Ты страшно потеешь.
— Телефон, я…
— У тебя дергается глаз.
Хоффманн так и держал палец на кнопке. Гнусавый вой разносился по коридору.
— Отпусти кнопку, Хоффманн. Успокойся. И прежде чем я что-нибудь сделаю… я хочу знать, как ты себя чувствуешь.
Хоффманн отпустил кнопку. В коридоре стало поразительно тихо.
— Мне надо еще позвонить.
— Ты звонил только что.
— По тому же номеру. Пока мне не ответят.
Тележку с телефоном и справочником вкатили в камеру, и седой инспектор сам набрал номер, который помнил наизусть. Он не сводил глаз с лица заключенного, смотрел на подергивающийся в тике глаз, на блестящие от пота лоб и запястья, смотрел на человека, сражающегося с собственным страхом, человека, который слушал гудки и которому никто не ответил.
— Ты неважно себя чувствуешь.
— Мне надо позвонить еще раз.
— Позвонишь попозже.
— Мне надо…
— Тебе никто не ответил. Перезвонишь потом.
Хоффманн не выпускал трубку из трясущийся руки, одновременно пытаясь взглянуть в глаза инспектору.
— Пусть мне принесут книги.
— Какие книги?
— Остались у меня в камере. В секторе «G2». У меня есть право на пять книг. Я хочу, чтобы принесли две. Я не могу целый день смотреть на стены. Книги на прикроватном столике. «Из глубины шведских сердец» и «Марионетки». Пусть их принесут, сейчас же.
Говоря о книгах, заключенный как будто немного успокоился, его уже не так трясло.
— Стихи?
— А что?
— Здесь не так часто читают стихи.
— Они нужны мне. Стихи помогают мне верить в будущее.
Его лицо, лицо заключенного, покрытое красными пятнами, как-то просветлело.
— «И вдруг мне пришло в голову, что потолок, мой потолок, — это чей-то пол».
— Как?
— Ферлин. «Босоногая ребятня». Если ты любишь стихи, я мог бы…
— Отдайте мне мои книги, и всё.
Пожилой надзиратель ничего не сказал; он выкатил тележку из камеры и запер тяжелую железную дверь. Снова стало тихо. Хоффманн опять сел на холодный пол и потрогал мокрый лоб. Его дергало, он дрожал, потел. Раньше он не знал, что страх виден со стороны.
* * *
Пит переместился с пола на кровать и лег на тонкий матрасик, без простыни и одеяла; он замерз, съежился в колом стоящей, не по росту большой робе и уснул. Ему приснилась Софья — она бежала перед ним, и он, как ни пытался, не мог ее догнать; он касался ее рук — но те растворялись в воздухе. Софья кричала, он отвечал, но она не слышала, его голос сходил на нет, а Софья становилась все меньше и удалялась, удалялась, чтобы потом медленно исчезнуть.
Читать дальше