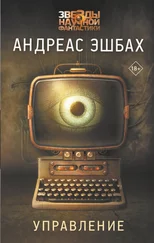Он увидел, как Юдифь медленно, понимающе кивнула. Он увидел лицо Иешуа в свете уличного фонаря — оно было бледным. Всё стало ясно. Все элементы пазла сложились в законченную картинку.
— Он хочет заполучить это видео, — сказал он.
Было исследовано строение стенок некоторых сосудов, при этом куски фрагментов сосудов были обломаны и заново обожжены в электрической оксидирующей печи, причём пробы подвергались в течение одного часа самой высокой температуре: 800—900 градусов для железновеково-византийской/франко-арабской керамики и 1000 градусов для средневековой и позднейшей керамики. Благодаря оксидированию обломки приобретали в большинстве своём более светлые тона, и тогда добавки, равно как и глазурь, становились лучше видны. Если обломки разрушались от высокой температуры, это давало возможность судить о температуре первоначального обжига (ср. гл. III. 5-1).
Профессор Чарльз Уилфорд-Смит. «Сообщение о раскопках при Бет-Хамеше».
Мобильный дом Джона Кауна можно описать двумя словами: «соответствующий положению». Большую его часть занимал роскошный кабинет, стены которого были облицованы тёмным деревом, а пол покрыт серым мягким ковром с ворсом по щиколотку. Пыльные ботинки оставляли на этом ковре грязные следы, вид которых причинял почти физическое страдание. В комнате царствовал громадный письменный стол красного дерева, на котором стояла бронзовая лампа с зелёным абажуром, — Эйзенхардт видел такие только в американских художественных фильмах. Над мощным чёрным кожаным креслом висела картина, написанная маслом и имеющая очень дорогой вид, — наверняка она таковой и являлась. На приставном столике стоял компьютер, на экране которого медленно вращался фирменный логотип «Каун Энтерпрайзес», а рядом толпилась целая батарея телефонов. Эйзенхардт вспомнил об антеннах, которые он заметил на крыше мобильного дома, среди них была большая спутниковая тарелка, которая наверняка годилась для двустороннего общения через спутники связи. Джон Каун мог находиться как угодно далеко от своей головной штаб-квартиры, но всегда имел возможность держать бразды правления в своих руках.
И что самое приятное: в помещении было прохладно.
— Что вы будете пить? — спросил магнат и открыл холодильник, набитый бутылками, в которых соблазнительно мерцали жидкости всех цветов. — Канадский виски для вас, как всегда, профессор?
— Да, спасибо, — вздохнул Уилфорд-Смит, опускаясь в кресло. Вид у него был утомлённый.
— А вы, мистер Эйзенхардт?
Писатель помедлил. Он редко пил алкоголь, и не столько из-за здоровья или из принципиальных соображений, сколько по той простой причине, что после этого чувствовал себя хуже, чем до того. Алкоголь ухудшал его самочувствие. В лучшем случае его одолевала сонливость.
— А нет ли у вас чего-нибудь безалкогольного? — спросил он.
Каун посмотрел на него взглядом, в котором Эйзенхардт прочитал некоторое неодобрение: как будто он нарушил неписаные правила. Испортил игру. Однако Каун спросил, не изменившись в лице:
— Что именно? Кока-колу? Имбирный эль? Перье?
— Кола была бы то, что нужно.
Каун подал им стаканы, себе намешал какой-то сложный напиток и сел за свой стол. Эйзенхардт невольно ожидал, что председатель правления слегка потянется, расслабит галстук и откинется на спинку кресла, но Каун лишь пригубил свой напиток, подался вперёд и уставился на писателя:
— Что вы думаете обо всём этом? — спросил он.
— Гм, — растерялся Эйзенхардт и стал подыскивать слова. Даже в повседневной жизни это давалось ему не так легко; по-английски же было вдвое сложнее. — Что я могу сказать? У меня такое чувство, что я по ошибке попал в фильм про Индиану Джонса.
По лицу медиамагната пробежало некое подобие улыбки, однако он ничего не сказал.
— Вполне ли вы уверены, что это не подстроенная фальсификация? — спросил Эйзенхардт. — Вспомните о дневниках Гитлера.
— Это было первое, о чём я подумал. Но есть ещё дневники Йозефа Геббельса, и они подлинные, — Каун бросил взгляд на свои наручные часы — плоские, золотые и, судя по виду, чудовищно дорогие. — Между тем пробы материалов уже должны были поступить в лабораторию в Чикаго, там радиоуглеродным методом определят их возраст. Если обнаружится, что бумаге две тысячи лет, то не останется никакого другого объяснения, кроме путешествия во времени. Ведь вы со мной согласны, не так ли? —Да.
— Существует и камера. В этом я уверен. И я также уверен, что она хорошо сохранилась.
Читать дальше
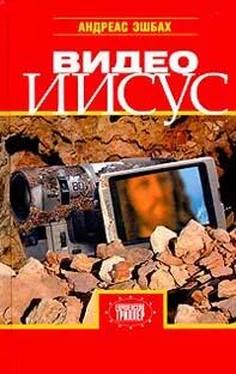
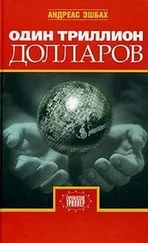







![Андреас Эшбах - Субмарин [litres]](/books/398417/andreas-eshbah-submarin-litres-thumb.webp)