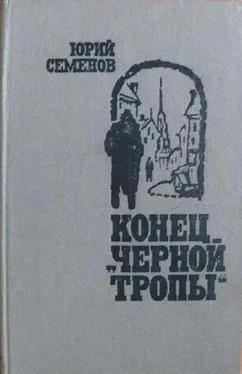— Справлюсь ли? Да и эта заграница мне вот как,— провел Сухарь пальцем по горлу. Спросил: — Надолго?
— До чего же я тебя знаю, друже Молоток,— с легкой веселостью заговорил Дербаш.— Ход конем сделал, подумал, а потом конкретно о деле. Приемлемо.
— Как же не думавши-то, друже Комар?
— Соображение должно моментально работать. Все замечай, соображай и делай вид, что отвечаешь подумавши, солидно.
— Не уловлю тонкости,— откровенно признался Сухарь.
— Встретишься с моим главным эсбистом, лично доложишь все о Горуне. Свои соображения об этом деле я ему уже сообщил. Вдвоем с ним разработаете подход к тем, с кем Горун поддерживал контакт. Пароль личный тебе дам, а по нему дальше получишь. Соображаешь ты хорошо, а действовать сумей, как я тебя учил: торопись медленно. И тогда ты будешь действительно Молоток.
Они еще посидели, обсуждая и переход польской границы через «окно», и как затем попасть по назначению под Мюнхен.
— Буча посвятит во все тонкости, он у меня уже дважды сходил туда и обратно,— закруглял Комар. И вдруг спросил: — Что там Горун толковал о Хмуром? В связи с чем? Очень путанно рассказывал об этом Буча, я толком не понял, что там за суждения у краевого проводника о вредности самого прозвания «бандеровец».
— Как же это Буча не доложил такую тонкость опасных рассуждений Хмурого, со слов Горуна, о том, что наименование «бандеровец» изжило себя, оно становится вредным, потому что у населения в сознании связывается с пониманием «банда», «бандит».
— Ты смотри, куда гнет! — возмутился Комар.— Это же не просто рассуждения. Давай-ка опиши мне все это. Буче хвост накручу, мямлил мне тут, пойми его.
Сухарь стал быстро писать по памяти показания Горуна, а Комар, прохаживаясь по комнате, вслух размышлял!
— Неужели непоправимо трещит, ползет? — взлохматил он пятерней волосы на затылке.— Очищать надо, вырывать гнилье, чтобы здоровое не заражало. Вернешься, я тебя на место Бучи поставлю, а то Павло тут не дотягивает. Хорошее мы тебе псевдо избрали. Оправдываешь, друже Молоток!
Куля растерялась, увидев прибежавшую к ней Полю из Смолевки, ту самую, которая с голодухи страдала «собачьей старостью». А узнав, что Лука жив, здоров и ждет свою Ганну, бросилась к своему милому дружку в сторону Рушниковки. Она бежала, не чувствуя ног, по чистому полю, пока не сообразила, что так может привлечь внимание. Сбавила бег, а потом и шаг — умаялась.
Она вспомнила о Поле, когда уже подходила к ее хате. Оглянулась, но та маячила очень далеко у края рощи, на взгорье. Куля вошла во двор, не зная, что предпринять. Но нерешительность ее длилась всего миг, потому что скрипнула сенная дверь, легонько приоткрывшись, и показалось лицо Луки. Он подал ей знак, приложив палец к губам.
Если бы не это предостережение, Куля бросилась бы к крыльцу. Сколько она пережила за дни разлуки, додумавшись до страшной крайности! Поэтому сейчас, внешне спокойно войдя в сени, повисла на шее у Луки и зарыдала. Он подхватил ее, говоря каким-то чужим хриплым голосом:
— Ну что ты, что? Погоди, успокойся — живой ведь. А что делать будем, поговорить пришел. Позвал вот.
Всхлипывая, Куля посмотрела на него:
— Как это, что делать? — спросила неуверенно: — Ты о чем, Лука? Что у тебя с голосом?
Тот только отмахнулся.
Куля пожала плечами, потерла кулачком под влажным носом, соображая. Спросила потверже:
— Зачем звал, Лука? Загадки разгадывать? Пить, что ли, опять начал? Перегаром несет. И чудной какой-то, на себя не похож.
— Почуднеешь тут. Не хочу я больше по лесам и схронам. Видишь, что творится. Надо выход искать,— застыл он с ожиданием на лице.
Куля едва проморгалась.
— Надо! Конечно, надо, Лука,— с чувством прорвалось у нее.— Ты сам додумался или надоумил кто? Заговорить об этом боялась, отдалась судьбе. Есть же, наверное, и у нас хоть лазеечка к счастью. Милый ты мой! Дочь же растет.
— Есть! — коротко вклинил Угар.
— Какой? Ну говори же!
— Боюсь. Язык не поворачивается сказать.
Куля поднялась, давая понять, что может уйти, упрекнула:
— Я-то его считала самым удалым, ловким, везучим. Ну, ну, подыми-ка лицо,— взяла она его за подбородок. Проспаться тебе надо, в себя прийти. С тобой уже никого нет, что ли?
— Куда они денутся.
— Что ж ко мне до хаты не пришел? Прок надоел, ходит, спрашивает. Эсбиста приставил.
При этих словах Угар вскочил с лавки, возбужденно затараторил, заикаясь:
— Нечего ему ходить! Я так и знал, потому к тебе и не шел. Арестует меня Прок. Он — чекист.
Читать дальше