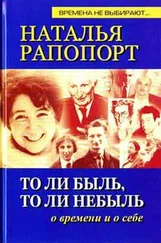Но молчание Сафрона также неожиданно прервалось, как и началось. Его взгляд и тело уже вернулись к действительности и, мирно посмотрев на не нарушившего его уединённость, он тихим и потрескивающим голосом спросил у него:
– Что спросить хочу, Сова. Хороший кольщик есть на зоне?
Вопрос заставил призадуматься и оттого ответ прозвучал неуверенно:
– Ну-у вроде есть один. Лисёнку морду лиса на плече наколол. И если честно, я таких оттенков ещё ни у кого не видел. Как-то натурально все выглядит. Рисунок, – чистые штрихи.
– Натурально, – это хорошо. Найди мне его, Сова, я пообщаюсь с ним.
– Ну-у хорошо. Приведу. Только не пойму, ты что, решил себе наколку сделать.
И словно избавляясь от последних колебаний, Сафрон ещё раз посмотрел на репродукцию на стене:
– Да, хочу, – уверенно ответил он. – Вот эту церковь хочу наколоть… И ты с этим кольщиком, долго только не тяни.
Третий год пошёл, как Сова стал близок к Сафрону. Тому предшествовало ряд последующих событий, в которых Сафрон обратил на него внимание. И Сова видел его тело. Видел и обнажённым по пояс, и в трусах сидящим на шконке, и сам не раз, как составляя компанию, ходил с этим состарившимся человеком в лагерную баню. И он давно уже отметил про себя, что не видел ни одной татуированной точки, на этом, с истончившейся кожей теле. Ни одной закорючки, ни единой какой-нибудь буковки, и вдруг под самую старость, когда одна нога уже в могиле, этот человек решает нанести себе нечто серьёзное. И тут баловством сиюминутным не пахло.
Только Сова и словом об этом не обмолвился, потому что ему легко и хлёстко могли бы ответить: ’’Тебе какое дело!? Тебя просят, – ты делай. А нет, так и вали отсюда! ’’. И что так могло бы быть, Сова тоже не сомневался. Желательное спокойствие этого человека, могло бы обмануть любого. А потому, он ответил, как надо:
– А чё-ё здесь тянуть, Сафрон, – уже с готовностью поднявшись со шконки, ответил он. – Сейчас зайду к Лисёнку и узнаю: где его искать?
– Хорошо, сделай, – удовлетворённо ответил Сафрон и, задумчиво поднявшись со шконки, он опять вернулся к большому и распахнутому окну.
Теперь, если внимательней присмотреться, пейзаж за окном выглядел выжженно-пустым, а прежде галдящая мужиками композиция, обезлюдила и уныла окончательно. Палящий зной. Глина-земля, и без того от природы красная, стала ещё твёрже и суше. Всё сгорело от солнца и высохло напрочь. И только старый карагач, держа в своих зелёных листочках, для себя живительную влагу, для глаз людских, ещё неведомо, чем питался. А его стволы под корою, ещё может с детства своего, ставшие по твёрдости своей подобно камню, они удивительно стойко продолжали бороться и жить.
… И Сафрону опять захотелось прожить по-другому. Не жить и не быть мальчишкой шпаною, и не думать в те годы, что мамке одной тяжело. Только он никогда не оправдывал себя, что начал красть по мелочам, лишь из-за нуждающейся мамки, или из-за своей сестрёнки и младшего братишки. Нет, в этом он оправданий себе не искал. Хотя, сознание взрослых людей ещё не пришло к нему, когда честный труд намного чище воровства. Но как хотелось ему плясать и прыгать, когда после очередного обворованного склада, он засовывал по карманам, сколько умещалось конфет, и спешил-приносил их домой. А потом, счастливым дедом Морозом, начинал перед младшими высыпать их из своих карманов. И эти минуты счастья были самым настоящим в его жизни. Жаль только, что длилось это недолго, и всего лишь мальчишкой в двенадцать лет, он в первый раз переступил черту неволи. В его жизнь вошла тюрьма, почему-то сразу и серьёзно спросившая: ‘‘Кем ты хочешь быть в этой жизни? Ты вор или не вор? ’’. И кто бы сказал, что не вор, когда ещё не знаешь чем, но хочется гордиться. И судьба понесла его по законам лагерной жизни, география которой распространилась, от магаданской баржи для заключённых до этого последнего лагеря, затерявшегося в южных степях Казахстана. А так легко надетый в мальчишестве ‘‘крест’’, – и Сафрон даже сам никогда не подумал бы, – он получается, что протащил, через все эти километры. Вот только для чего, всё больше и больше начинал он спрашивать себя. Изменился мир, другими стали люди, а он зачем-то и для чего-то продолжает жить. И что самое необьяснённое, его ‘‘крест’’ ещё весит на его груди. И он давно уже понял: он будет нести его до конца. Кто поднял его и сделал таким, тех людей уже нет. А жить среди другой людской пародии становится всё труднее. Приходится всё больше молчать и лишний раз не раздражать свою душу. И здесь обидно только одно: тогда ещё никто не знал, и может даже представить не мог, что совсем в другую сторону уйдёт сознание людей. А таким, как он, придётся просто доживать свой век. Старое останется старым, а новое будет другим. А против таких вещей, с ножичком в руке, уже не попрёшь.
Читать дальше