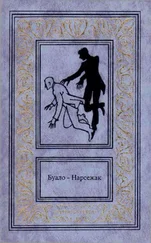— Я больше не боюсь, — пробормотал он.
Она погладила его по лбу. Он ощутил ее дыхание на своей щеке. Запах мимозы набирал силу, волнами растекался по комнате. Флавьер осторожно вытянулся на кровати рядом с Мадлен, чье тепло он вбирал в себя, отыскал ее руку, гладившую перед тем его лицо. Он прикасался к ней легонько, словно пересчитывал пальцы. Теперь он узнавал это тонкое запястье, коротенький большой палец, выпуклые ногти. Как он мог забыть? Боже, как ему хочется спать. Он погружался в потемки, населенные воспоминаниями. Перед ним был руль, на котором лежала хрупкая и такая живая рука — та самая, которая развязала голубую тесьму на пакете и достала оттуда кусочек картона с надписью: «Возродившейся Эвридике»… Он открыл глаза. Мадлен не шевелилась. С минуту он прислушивался над невидимым лицом, припал губами к закрытым глазам — они жили, еле заметно двигаясь под веками.
— Ты не хочешь сказать мне, кто ты? — шепнул он.
Из-под теплых век выступили слезы; он машинально попробовал их на вкус, не переставая думать о своем. Потом пошарил под подушкой, пытаясь найти платок.
— Я сейчас.
Он бесшумно прошел в ванную. Сумочка Рене была тут, на столике, среди флаконов. Он открыл ее, порылся, но платка не было. Зато его пальцы наткнулись на что-то… продолговатые бусины… Неужели..? Ну конечно, ожерелье. Он подошел к окну, пригляделся к находке в бледном аквариумном свете, с трудом пробивавшемся сквозь толстые матовые стекла. На янтарных бусинах играли золотистые отблески. Руки его задрожали. Точно: ожерелье Полины Лажерлак.
— Ты слишком много пьешь, — заметила Рене.
Она тотчас оглянулась на соседний столик, опасаясь, что ее услышали. Она не могла не видеть, что в последние дни Флавьер начал привлекать к себе внимание окружающих. Бравируя, тот залпом осушил бокал. Щеки его были бледны, но на скулах проступил яркий румянец.
— Уж не думаешь ли ты, что эта подделка под бургундское ударит мне в голову?
— И все-таки ты совершаешь ошибку.
— Да, я совершаю ошибку… Всю жизнь я только тем и занимаюсь, что совершаю ошибки. Ты не сообщила мне ничего нового.
Опять это беспричинное ожесточение… Рене углубилась в изучение меню, чтобы не видеть этого тяжелого и вместе с тем полного безысходной тоски взгляда, ни на миг не перестававшего ее буравить. Рядом со столиком вырос официант.
— Что угодно на десерт? — спросил он.
— Тарталетку, — ответила Рене.
— И мне, — сказал Флавьер.
Как только официант удалился, Флавьер наклонился к ней.
— Ты ничего не ешь… В былые времена аппетит у тебя был получше. — Он коротко усмехнулся, губы его подрагивали. — Ты запросто расправлялась с тремя-четырьмя бриошами.
— Я не…
— Да-да, вспомни. «Галери Лафайет».
— Опять эта история!
— Да. Это история того времени, когда я был счастлив.
Флавьер перевел дух, пошарил сначала у себя в карманах, затем в сумочке Рене в поисках сигарет и спичек. Он не сводил с нее глаз.
— Не стоило бы тебе курить, — тихо проговорила она.
— Знаю. И курить мне не следует. Но если я загнусь, — он зажег сигарету, помахал спичкой перед лицом Рене, — невелика беда. Ведь ты сама говорила мне: «Умирать не больно»…
Выведенная из себя, она пожала плечами.
— Но это же так, — не унимался он. — Я даже могу точно сказать тебе, где это было: в Курбвуа, на берегу Сены. Как видишь, моя-то память еще в порядке.
Прищурив один глаз из-за дыма, он усмехался. Официант принес тарталетки.
— Давай ешь! — сказал Флавьер. — Обе. Я уже сыт.
— На нас смотрят! — взмолилась Рене.
— Ну и что? Имею же я право сказать, что насытился. Это превосходная реклама для заведения.
— Не пойму, что на тебя сегодня нашло.
— Ничего, дорогая, ровным счетом ничего. Просто мне весело… Почему ты не берешь ложечку? Раньше ты всегда пользовалась ложечкой.
Она оттолкнула тарелку, схватила сумочку, поднялась:
— Ты невыносим.
Он встал вслед за ней. Точно: на них оборачивались, их провожали взглядами, но он уже не испытывал стыда. Люди перестали для него существовать. Он чувствовал себя выше всяких пересудов. Попробовал бы кто-нибудь из этих людей хоть час побыть в его шкуре! Он догнал Рене у лифта: лифтер украдкой разглядывал их. Рене высморкалась, спрятала лицо за сумочкой, делая вид, что пудрится. Вот такой, готовой расплакаться, она нравилась Флавьеру; к тому же простая справедливость требовала, чтобы и она получила свою долю страданий. Длинный коридор они прошли в молчании. Войдя в номер, Рене швырнула сумочку на постель.
Читать дальше
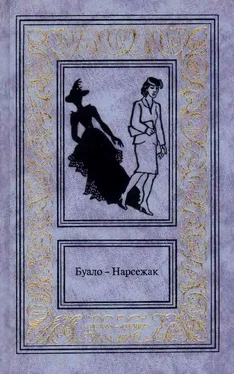


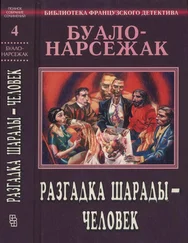
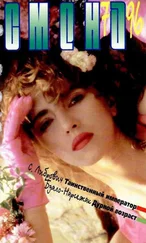


![Буало-Нарсежак - Замок спящей красавицы [Волчицы • Дурной глаз • Замок спящей красавицы • Фокусницы]](/books/424831/bualo-thumb.webp)

![Буало-Нарсежак - Из царства мертвых. Полное собрание сочинений. Том 1 [Призрачная охота, Та, которой не стало, Лица во тьме, Из царства мертвых]](/books/429663/bualo-thumb.webp)